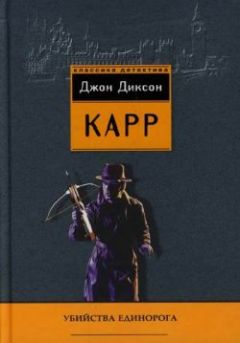Джон Диксон Карр
Убийства единорога
Позвольте мне изложить вам дело и спросить, как бы вы поступили при таких обстоятельствах.
Вы в Париже на каникулах, в том месяце, когда весна почти становится летом. На душе у вас легко, и вы в полном согласии со всем миром. Однажды в сумерках вы сидите на террасе кафе «Лемуан» на рю Руаяль, попивая аперитив. Потом вы видите идущую к вам девушку, с которой ранее были знакомы в Англии. Эта девушка – которую, кстати, вы всегда считали весьма чопорной – подходит прямиком к вашему столику и начинает с серьезным видом декламировать детский стишок. После этого она садится за столик и продолжает болтать самую нелепую чушь, какую вы когда-либо слышали. Ну?
Да, именно это я и сделал – стал ей потакать. В результате я оказался вовлеченным в серию событий, одно воспоминание о которых вызывает у меня дрожь, не только потому, что они оказались куда хуже тех, с которыми мне приходилось сталкиваться во время службы в разведке, но и при мысли о том, какие ужасные вещи может повлечь за собой безобидная ложь. Я был глупцом, но меня интересовала Эвелин Чейн, а весенний Париж подталкивает к глупостям.
Я могу предоставить лишь самые необходимые биографические данные. Согласно паспорту, мое имя Кенвуд Блейк, возраст – тридцать восемь лет, адрес – Эдвардиан-Хаус, Бери-стрит, Сент-Джеймс. О роде занятий говорить нечего – я не люблю работать и признаю это. Мне прочили дипломатическую карьеру, поэтому пичкали множеством языков. В 1914 году я отправился в Вашингтон в качестве атташе британского посольства, а год спустя, уже перейдя возрастной лимит, умудрился получить назначение в полк хайлендеров[1] Сигрейва. Я надеялся командовать батальоном, но был ранен при Аррасе, а когда поправился, меня признали негодным для службы в действующей армии.
Потом одним пасмурным днем в Лондоне, когда мое настроение было под стать погоде, я столкнулся с Г. М. Едва ли я когда-нибудь забуду его шагающим по Уайтхолл в сдвинутом на затылок цилиндре, съехавших к кончику носа очках и пальто с побитым молью меховым воротником. Он шел опустив голову, размахивая кулаком и бормоча проклятия по адресу правительственных чиновников, которые обвинили его едва ли не в прогерманских настроениях. Думаю, Г. М. сразу понял, как обстоят мои дела, хотя и не подал виду. Он затащил меня в свою берлогу с окнами на набережную Виктории, и таким образом я поступил на секретную службу, по его словам не имея к этому никаких особых данных, кроме отсутствия хитрости.
Г. М. утверждал, что это бесценное качество для сотрудника секретной службы, так как слишком хитрые заканчивают жизнь перед расстрельной командой или с ножом в спине. Если подумать, это не так глупо, как кажется. Он предупредил, что не сможет оказать мне никакой помощи, если у меня возникнут трудности, что было ложью от начала до конца. Я знал, что Г. М. способен поставить с ног на голову все правительство и мобилизовать все ресурсы министерства иностранных дел, дабы защитить самого ничтожного из своих агентов. Они его семья, заявлял он, а если такому-то это не нравится, он может идти туда-то и делать то-то.
Я перешел из контрразведки в разведку, что означало работу за рубежом, которая продолжалась до конца войны. Здесь не место рассказывать о моих тогдашних приключениях и о славных парнях, которые делили их со мной. Но я вспоминал о них, сидя на террасе «Лемуана» на рю Руаяль и потягивая «Дюбонне».
Была суббота 4 мая. Парижская весна погружала меня в летаргию добродушия. Деревья были в цвету, в янтарных лучах солнца светло-зеленые листья казались прозрачными, а воздух наполняли шум голосов и гудки такси.
Было около восьми вечера – подходящее время, чтобы расслабиться после обеда под звуки, весьма напоминавшие летний дождь. Капли барабанили по навесу у меня над головой, порывы ветра уносили прочь газеты и раздували белые фартуки официанток. Запомните, что я две недели не заглядывал в газеты – разве только мельком видел заголовки. Мимо меня пронеслась одна из них, и я придавил ее ногой. Заголовки сообщали о подготовке к юбилею английского короля, беспорядках в Индии, но более всего о людях по имени Фламанд и Гаске.
Это вызвало у меня интерес, смешанный с раздражением, какой вызывает бессмысленная популярная фраза, значение которой вам непонятно. Годами люди отвечали почти на все: «Да, у нас нет бананов»,[2] вызывая желание спросить: «Что, черт возьми, это значит?» Точно так же мне захотелось узнать, кто такие Фламанд и Гаске. Казалось, все говорили о них. Их имена наполняли Париж, как гудки такси, и слышались даже на этой террасе, где было не так уж много народу. У меня возникла идея, что они – соперничающие друг с другом боксеры или члены кабинета министров. Во всяком случае, заголовок статьи, которую мне было лень читать, сообщал, что один послал другому зловещий вызов.
За улетевшей газетой побежал официант. Я протянул ему газету и осведомился наугад:
– Вы друг Фламанда или Гаске?
Результат был поистине удивительным. Проходивший мимо agent de police[3] внезапно остановился и уставился на меня с явным подозрением, после чего шагнул на террасу.
– Ваш паспорт, месье, – потребовал он.
Официант склонился над столом и быстро провел по нему тряпкой.
– Этот джентльмен не сделал ничего дурного. Он только спросил…
– Англичанин, – промолвил полицейский, изучая мой паспорт. – Вы использовали слова, месье, которые могли служить сигналом. Поймите, я не хочу докучать безобидному путешественнику, но…
Полицейский говорил сквозь зубы, поглаживал усы, как строгий чиновник, но я не мог понять, что такого я сказал. Конечно, если это было политическое дело вроде аферы Ставиского,[4] то я ступил на опасную почву.
– Вероятно, все дело в моем скверном французском языке, месье, – отозвался я с поклоном, чувствуя себя полным идиотом. – По правде говоря, я спросил не подумав. У меня и в мыслях не было пренебрежительно отзываться о ваших боксерах или министрах…
– О ком? – перебил полицейский.
– О ваших боксерах или министрах, – повторил я. – Мне дали понять, что эти господа принадлежат к одной из упомянутых категорий…
Полицейский засмеялся, и я понял, что неприятности позади, хотя мы привлекли нежелательное внимание других посетителей.
– Да неужто? Наши парижане смеются над вами, месье. У них дурные манеры, за которые я извиняюсь. Простите, что побеспокоил вас. A'voir,[5] месье.
– Но все-таки кто этот Фламанд? – осведомился я.
Пристрастие полицейского к драматическим эффектам повлекло за собой ряд трудностей.
– Он убийца, месье, – ответил полицейский, после чего расправил плечи, отсалютовал и вышел из кафе с таким видом, словно скрывался за кулисами. Я отослал официанта и в следующий момент осознал, что полицейский ушел с моим паспортом.
Бежать за ним я не стал, поскольку и так обратил на себя слишком много внимания. Пережив триумф своего драматического ухода со сцены, полицейский обнаружит у себя в руке мой паспорт и вернет его, а если нет, официант наверняка знает его номер, так что я в любом случае смогу получить паспорт назад. Поэтому я остался сидеть за столиком и вскоре увидел Эвелин Чейн.
Она прошла на террасу через дальний вход со стороны плас де ла Конкорд и, должно быть, видела, если не слышала, заключительную часть моей беседы с полицейским. Моей первой реакцией была мысль, что теперь я всегда буду выглядеть дураком в ее глазах. Заметив Эвелин на фоне темнеющего неба, я вздрогнул не от предчувствия, а скорее от удивления при виде ее и того, как она одета. Я даже был не вполне уверен, что это Эвелин.
Ее нельзя было назвать моим старым другом. До сих пор мы встречались только четырежды. У нее были темные волосы и карие глаза – не сочтите мою речь неподобающей, но о внешности Эвелин можно было сказать: о такой девушке мечтают солдаты, возвращаясь после трехнедельного пребывания под огнем. Однако она никогда бы не признала свое истинное metier.[6] Эвелин утверждала, что хочет быть ценимой за свой ум, и я как дурак верил ей – или почти верил. Она «занималась политикой». Это означало, что Эвелин начнет карьеру как секретарь какого-нибудь говорливого члена парламента, потом будет избираться сама и со временем может стать такой же знаменитой, как леди Астор[7] (ужасная мысль!).
Она с такой холодной небрежностью говорила о прогрессе, служении человечеству, его будущем и тому подобных материях, которые я считал полнейшим вздором, что я не знал, чему верить. Эвелин бросала вызов природе, нося строгие костюмы и пенсне на цепочке.
Но все это было до того вечера в «Лемуане». Я увидел Эвелин такой, какой ей следовало быть всегда. Девушка на террасе была одета во все белое, включая кокетливую шляпку, а ее кожа отливала золотисто-кофейным оттенком, который так редко встречаешь в реальности. Карие глаза были устремлены на меня – их взгляд был бесстрастным, но рука нервно щелкала замком сумочки. Она подошла к моему столику, и я вскочил.