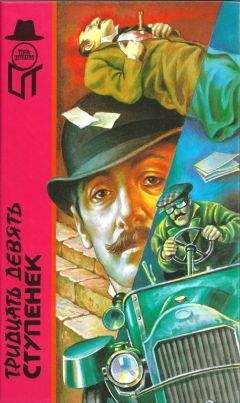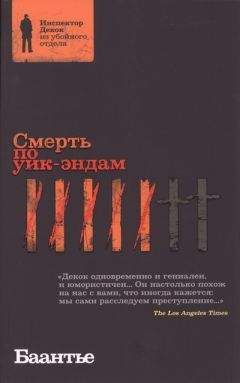– Пойдем взглянем на пациентку, – предложил я.
– Отлично. Она наверху.
Мы пошли по огромному коридору, увешанному портретами прославленных предков, пыльному, душному. На фоне стенных дубовых панелей стояла ужасная светлая угловатая мебель. Наверно, мы оба себя чувствовали совсем крошечными. Начали подниматься по широкой лестнице – необъятной, громадной, застланной ковром; по такой лестнице только гробы носить. Если бы не повороты, можно было бы без опаски спускать их по перилам. Внизу, в бездне, глухо горела лампа, на нас веял сквозняк. Почти наверху Шэрон остановилась. Помню белизну ее лица, глубокий блеск глаз, окруженных черными ресницами. Над ее головой висел длинный темный портрет какого-то кружевного развратного джентльмена. Она напоминала боявшегося темноты ребенка, перепуганного под громоздившимся портретом.
– Я хотела тебе рассказать, – начала она, – почему все так вышло…
Голос тихий, холодный, неубедительный.
– Все время думаю… – продолжала она, сдвинув брови. – Знаешь, почему я с тобой постоянно боролась, скандалила, проявляла подозрительность, вела себя чудовищно? Знаешь? – требовала она ответа.
– Да, – тихо ответил я.
– Нет. Ничего ты не знаешь. Ты думал, будто я не желаю любви… Нет! Я в этом когда-нибудь сомневалась? А ты? Если скажешь «да», значит, ты гнусный лжец.
Она отвела от меня горящий взгляд и слепо побрела наверх, в глубокую тень. Мы оба были смущены, озадачены, напряжены. Она стукнула кулаками в стену.
– Мы что-то потеряли в своем безумном мире, и все прочие тоже. Встречались забавные люди, в Ницце, в Канне, в Довиле, повсюду. Черствые, сильные, лощеные, хихикавшие, ненавистные мне – они тоже что-то упустили. Все наше поколение. Какую-то мелочь. Ты поймешь, что я имею в виду, после разговора с Колетт, – добавила она. – Пойдем наверх.
– Как ты с ней познакомилась?
– Я давно ее знаю. Сегодня тебе в клуб звонила, там сказали, ты в театр пошел. Колетт увидела у меня свет, попросила зайти, знаешь, была расстроена, а потом… Боже мой, какой ужас! Одно за другим! Без конца сплошные поганые неприятности! – выпалила она, стиснув руки. – Почему именно я всегда вляпываюсь в подобные происшествия?
– Ты тут совсем одна?
– Да. Окно взломала и влезла. Если мой старик узнает…
Мрачная задумчивость под темным портретом, на ветреных высотах ада, была мимолетной. Открыв дверь в маленькую гостиную, выходившую окнами на Маунт-стрит, в целости и сохранности вернулась веселая грациозная Шэрон.
– Долго вас не было, милочка, – проворковал женский голос.
В глубоком кресле с наголовниками перед камином, единственным источником света в комнате, сидела Колетт Лаверн. Голос ровный, окрашенный французским акцентом, с четкими согласными; каждое слово как бы звучало отдельной фразой. Когда мы вошли, она только чуть голову повернула. Дрова в камине шипели, дымились светло-голубоватым дымком, бросая причудливые блики света на медную подставку, на лицо женщины. Она сидела очень прямо между наголовниками кресла, кутаясь в синий золоченый халат, принадлежавший, видимо, Шэрон, слишком маленький для нее. Лицо холодное, безупречное, раздраженное, с гладкой, белой, упругой кожей, на фоне которой накрашенные губы казались в кровь разбитыми. Темно-карие, с яркими белками глаза под прямыми бровями, взгляд ледяной, равнодушный, в высшей степени рассудительный. Темно-рыжие волосы скручены на затылке в узел. Я, пожалуй, никогда не видел такой красивой и в то же время столь непривлекательной женщины. Рост высокий, фигура, в данный момент полностью скрытая синим золоченым халатом, полностью отвечала самым греховным мужским представлениям, но сама ее пышность казалась застывшей, железной, непроницаемой, точно так же, как лицо. Снова логика и рассудительность. Даже тени Деловито лежали под крыльями носа, деловито омрачая лицо.
– Значит, вы детектив, – заключила она, твердо подчеркивая согласные. – Боже, какой молодой! – Неожиданно громко расхохоталась, полностью продемонстрировав прекрасные белые зубы. – Не обижайтесь. Сядьте рядом, давайте поговорим.
Похлопала рукой по стоявшему рядом дивану. С виду веселая, но взгляд трезвый, оценивающий; слишком крепко стиснутые зубы выдавали дурной нрав. Она протянула изящную руку, звякая массой серебряных браслетов с бирюзой. Я знал таких женщин, они часто встречаются на Ривьере. Эти ловкие маленькие игроки любят часами сосредоточенно сидеть за столиками, до безумия обожают собачек-пекинесов (которых всегда хочется пнуть), холят их и лелеют; по белым пальмовым променадам разносится их громкий смех. Носят наряды от Пату и сомнительные жемчуга. Соблазнительные, невежественные, умные, суеверные, холодные, как кобры.
Колетт Лаверн отсутствующим тоном обратилась к Шэрон.
– Дорогая, – сказала она, – окажите любезность, налейте мне еще того самого дивного бренди. И сигарету «Абдулла». Я побеседую с милым молодым человеком.
Шэрон застыла с недоуменно-презрительным выражением, но Колетт Лаверн уже забыла про нее. Она мне все определенней не нравилась. Я не собирался ее просвещать. Она приняла меня за детектива, значит, надо изображать детектива, держать все карты в рукаве, вести рискованную игру.
Женщина была испугана. Она смеялась, проявляла деловую сметку, но была чем-то насмерть испугана. И спросила, глядя в камин:
– Вы официально служите в полиции?
– Нет.
– Тогда скажу, я попала в тяжелое положение. В очень тяжелое, но не стала б рассказывать полицейскому. Шэрон утверждает, что вам можно верить.
Она медленно перевела на меня равнодушный взгляд карих глаз. Губы словно шептали проклятия. Взгляд затуманился; она вдруг ударила по ручкам кресла ладонями, и из ее уст под звон браслетов посыпалась металлически четкая ругань в адрес Низама аль-Мулька.
– Знаете, я живу в соседнем доме. Содержит меня египтянин, очень богатый. Понятно? Десять лет назад кое-что произошло. Я молчала, но знала. Низам – его зовут Низам – жил в то время в Париже. Случилось это в ноябре, сразу после окончания войны. У нас была веселая компания. Я с ним тогда еще не жила, но он был очень щедр. Всегда тратит очень много денег, – задумчиво заметила она. – Понимаете, кроме Низама, за мной еще двое ухаживали. Француз де Лаватер, очень милый, однако… – пожала она плечами, – без денег, хромой после ранения. И один англичанин, огромный, высокий, все время смеялся. Во время войны он был летчиком, самолет подбили, его посчитали погибшим, а он попал в парижский госпиталь. Все его называли Кин, не знаю почему, но мне он рассказывал, что его настоящее имя значится в Книге пэров. Он носил прозвище Кин, чтоб семья не узнала, что он остался в живых, и не требовала вернуться домой, – он еще не хотел возвращаться домой.
И опять рассмеялась, показав все зубы.
– Ха! Он все звал меня Бетти, «Бетти, моя девочка», а я отвечала: «Да, я твоя девочка, только, пожалуйста, убери руки». – Она снова широко сердито повела плечами, выпятив нижнюю губу. – Низам, проклятый богом дурак, решил, будто я предпочла ему де Лаватера и Кина. Ха! Будьте уверены, я не такая чертова дура. Но Низаму в голову втемяшилась идиотская мысль! Он купил очень большой дом у Булонского леса… Шестьдесят четыре комнаты. Стал устраивать приемы. И какие приемы! Чего они ему стоили! Сто тысяч франков один оркестр! И балетные танцовщики. Все напивались допьяна. Вечером 17 ноября он устроил какой-то египетский костюмированный бал. Шикарно! Триста тысяч… ну ладно… Я никогда не видела Низама таким потешным и странным. Выглядел просто дико, со змеей на лбу.
Она замолчала, когда Шэрон подошла к камину с графином бренди и серебряным портсигаром, поставила графин на столик у кресла, села рядом со мной на диван.
Я смотрел на желто-голубые языки пламени, шипевшие над дровами, и перед глазами возникали жуткие образы. Змея – Царская диадема, символ фараона! – вполне естественно смотрелась бы на лбу Низама аль-Мулька. Меня будто кто-то по спине ударил: припомнился дневной рассказ Банколена о найденном парижской полицией в лесу теле мужчины в сандалиях и золоченых одеждах египетского вельможи. Он был застрелен в голову…
Колетт Лаверн подняла руку, закуривая сигарету, звякнув сверкающими браслетами. Губы выпустили колечко дыма, проплывшее мимо стеклянных, застывших глаз. Вытянулась, изогнулась, глубже откинулась в кресле, обхватив плечи руками. Лицо холодное, мертвое, настороженное. Темно-карие глаза щурились. Кровавые губы с прилипшим кусочком бумаги от сигареты медленно приоткрылись, обнажив белые зубы.
– Низам читал всякие вещи, которых я не понимаю, – неожиданно сообщила она. – Абсолютно не понимаю… Однажды вечером шел буйный пир. Не могу рассказать, что стряслось. Я искала де Лаватера и Кина и не смогла найти. К утру явился один мой приятель. Его била дрожь, хотя он не был пьян, в отличие от остальных, и не мог никому ничего втолковать, – все в дым пьяные валялись на полу. Он стоял и кричал, что кто-то застрелил де Лаватера, разыскивают Кина.