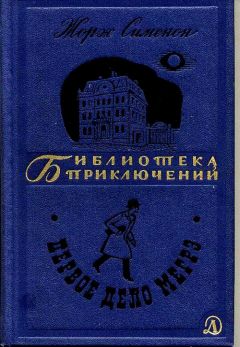Замедленным жестом она положила на стол письма, не бросила, а именно положила. Посмотрев на фермера, потом на комиссара, она хотела что-то сказать, но это ей удалось не сразу. Наконец она выдавила:
— Пора выносить приговор. Пусть кто-нибудь прочтет.
Лицо Ливенса залила краска. Истинный голландец, он не мог позволить себе броситься к письмам, которые притягивали его как магнит.
Женский почерк, голубоватая бумага. Конечно, письма Бетье.
Разница между двумя пачками бросалась в глаза. Писем Попинги, на одной страничке, в основном по пять-шесть строк, не насчитывалось и десятка.
Писем Бетье, длинных, написанных убористым почерком, было в три раза больше.
Конрад умер. Остались лишь две неравные пачки писем да куча бревен, свидетелей встреч на берегу Амстердипа.
— Успокойтесь, — попросил Мегрэ. — И неплохо бы прочитать эти письма без гнева.
В глазах фермера стояла глубокая печаль. Он уже все понял и непроизвольно шагнул к столу.
Мегрэ взял первое попавшееся под руку послание Попинги.
— Не сочтите за труд перевести, мадемуазель Ани.
Девушка, казалось, не слышала. Она смотрела на почерк, не говоря ни слова. Г-жа Попинга, степенно и с достоинством, взяла записку у нее из рук.
— Написано в училище. Число не указано. Сверху пометка: шесть часов. И текст:
Бетье, малышка!
Сегодня вечером не приходи — ждем директора на чашку чая.
До завтра. Целую.
Она взглянула на всех вызывающе спокойно, взяла другую записку и медленно прочитала:
Бетье, прелесть моя!
Прошу тебя, успокойся. Думай о будущем — жизнь такая длинная. У меня сейчас много работы: третий курс сдает экзамены. Сегодня вечером я занят.
Я тебя по-прежнему люблю, но, к сожалению, освободиться не могу. Что будем делать?
Не волнуйся. У нас все впереди.
Нежно обнимаю тебя.
Мегрэ хотел сказать, что этого достаточно, но г-жа Попинга взяла очередное послание:
— Пожалуй, это, последнее:
Бетье.
Так нельзя! Умоляю тебя, будь благоразумна. Ты прекрасно знаешь, что у меня нет денег, а чтобы найти приличное место за границей, потребуется много времени.
Будь осторожна, не волнуйся. Главное — верить!
Ничего не бойся. Если случится то, чего ты так опасаешься, я выполню свой долг.
Я нервничаю, потому что сейчас много работы, а когда я думаю о тебе, то работаю плохо. Вчера директор сделал мне выговор, и я очень расстроен.
Завтра вечером постараюсь выйти из дому — скажу, что иду в порт взглянуть на норвежское судно.
Обнимаю тебя, малышка.
Г-жа Попинга обвела всех усталым взглядом. Ее рука потянулась к другой пачке, той, которую принесла она, и фермер вздрогнул. Она взяла письмо наугад.
Дорогой Конрад, как я тебя люблю!
Есть отличная новость: по случаю моего дня рождения отец положил на мой счет в банке еще тысячу флоринов.
Этого вполне достаточно, чтобы поехать в Америку — я узнала из газеты тарифы на пароход. Мы можем отправиться в третьем классе.
Что тебя удерживает здесь? Жизнь стала просто невыносимой. Я задыхаюсь в Голландии. Мне кажется, весь Делфзейл смотрит на меня с укором.
Но несмотря ни на что, я счастлива и горда принадлежать такому человеку, как ты!
Надо обязательно уехать до каникул: отец настаивает, чтобы я отправилась на месяц в Швейцарию, а я не хочу — тогда наш грандиозный план придется отложить до зимы.
Я купила учебники английского языка и уже выучила много фраз.
Скорее! Скорее! Нас ждет прекрасная жизнь, правда?
Нельзя больше оставаться здесь… Особенно теперь! Мне кажется, г-жа Попинга стала холодна со мной. И я боюсь Корнелиуса — он бегает за мной по пятам, а я не могу его огорчить. Очень милый, хорошо воспитанный мальчик, но как он глуп!
К тому же он совсем ребенок. Не то, что ты, Конрад!
Ты видел мир, знаешь жизнь.
А ведь всего лишь год назад, когда я появилась на твоем пути, ты даже не смотрел на меня! Помнишь?
И вот теперь у меня может быть ребенок. Твой ребенок!
Во всяком случае мог бы быть…
Но почему ты так изменился? Неужели ты меня разлюбил?..
Письмо было не закончено, но голос г-жи Попинга настолько ослаб, что она замолчала. Пальцы ее перебирали пачку писем. Она что-то искала.
Потом прочитала еще одну фразу из середины письма:
Заканчиваю с мыслью, что ты больше любишь свою жену, чем меня, я ей завидую и ненавижу ее. Иначе, почему ты теперь отказываешься уехать?
Фермер не понимал слов, но слушал с таким вниманием, что можно было с уверенностью сказать: он догадывается.
Г-жа Попинга проглотила слюну, взяла последнее письмо и прочитала глухим голосом:
Я слышала разговоры, что Корнелиус больше влюблен в госпожу Попинга, чем в меня, и что они хорошо ладят друг с другом. Если бы это было правдой! Тогда мы могли бы не волноваться, и тебя не терзали бы сомнения…
Она выронила листок. Он упал на ковер к ногам Ани, которая не сводила с него глаз.
В комнате воцарилась тишина. Г-жа Попинга не плакала, но все в ней выражало страдание: и затаенная боль, и умение держать себя в руках, достигнутое ценой огромных усилий, и прекрасное чувство, вдохновляющее ее.
Она пришла защищать Конрада! Она ждала нападения и готова была сражаться, если потребуется.
— Когда вы нашли эти письма? — смущенно спросил Мегрэ.
— На следующий день после…
У нее перехватило дыхание. Она глубоко вздохнула. Глаза ее наполнились слезами.
— После того, как Конрад…
— Да.
Он понял и посмотрел на нее с сочувствием. Не красавица, но и далеко не дурнушка, она не имела тех недостатков, которые делали столь неприятным лицо Ани.
Высокая, крупная, но не толстая. Густые прекрасные волосы, розовое лицо.
И все-таки Мегрэ предпочел бы, чтобы она была некрасива. Он старался избегать таких правильных лиц с тщательно продуманным выражением, вызывающим скуку.
Даже ее улыбка должна была быть сдержанной, осмотрительной, а радость — спокойной и бодрой.
В шесть лет она, вероятно, была серьезным ребенком, а в шестнадцать — уже такой, как сегодня.
Она из тех женщин, которые рождены быть сестрами, тетушками, сиделками или вдовами, патронирующими благотворительные учреждения.
Конрада не было, но еще никогда Мегрэ не чувствовал его настолько живым, как сейчас, с добродушным детским лицом, чревоугодием, вкусом к жизни, робостью, боязнью открытого столкновения, возле этого приемника, ручки которого он крутил часами, чтобы поймать мелодию джаза из Парижа, цыган из Будапешта, оперетту из Вены или даже чуть слышимые позывные судов.
Ани подошла к сестре, обращаясь с ней как с больным или теряющим силы человеком. Но г-жа Попинга повернулась к Мегрэ, сделала навстречу ему два шага.
— Я никогда не думала… — прошептала она. — Никогда!
Я жила… Я… И когда он умер, я…
По тому, как она дышала, Мегрэ понял, что у нее больное сердце, и мгновение спустя его предположения подтвердились: она долго стояла неподвижно, положив руку на грудь.
Тишину нарушили шаги: фермер с лихорадочным, жестким взглядом подошел к столу и с нервозностью вора, который боится быть застигнутым на месте преступления, взял письма дочери.
Г-жа Попинга промолчала. Мегрэ тоже.
Но фермер не уходил. Он заговорил, не обращаясь, собственно, ни к кому. Слово Franzose резануло ухо Мегрэ, ему показалось, что он понимает голландский язык, как, без сомнения, Ливенс в этот день понимал французский.
Мегрэ составил фразу примерно такого содержания:
— Вы считаете, надо все рассказывать французу?
Он уронил шапку, поднял ее, поклонился Ани, мимо которой проходил, но только ей одной, проворчал что-то неразборчивое и вышел. Служанка уже закончила мыть пол, потому что дверь сначала открылась, потом закрылась — и все стихло.
Несмотря на присутствие девушки, Мегрэ продолжал расспрашивать г-жу Попинга и делал это с мягкостью, на которую, казалось, был не способен:
— Вы показывали письма своей сестре?
— Нет! Но когда этот человек…
— Где они лежали?
— В ящике ночного столика. Я никогда не открывала его. Там же был и револьвер.
Ани что-то сказала по-голландски, и г-жа Попинга машинально перевела:
— Сестра говорит, что мне надо лечь — вот уже три ночи, как я не сплю… Он бы не ушел. Наверное, однажды был неосторожен. Он любил смеяться, шутить… Я вспомнила кое-какие мелочи. Бетье всегда приносила фрукты и пирожные, которые делала сама. Я думала, это мне. Потом она приглашала нас играть в теннис, и всегда, когда знала, что я занята. Но я не хотела видеть дурного. Я была рада, что Конрад хоть чуть-чуть отдыхает. Он много работал и скучал в Делфзейле. В прошлом году она ездила с нами в Париж.
Именно я настояла на этом.
Она говорила просто, с усталостью, в которой проскальзывала горечь.
— Он не хотел ехать, но боялся огорчить меня. Такой уж у него был характер. Он получал выговоры, потому что ставил на экзаменах слишком хорошие отметки. Мой отец не любил его за это.