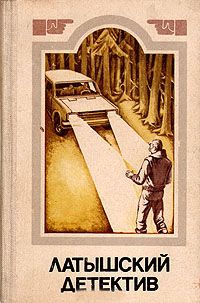И странно – постепенно он действительно вырастает в моих глазах, становится больше и значительнее, а я чувствую себя, как подпасок, которого отчитывают.
Кажется, об убийстве Грунского он даже не подозревает.
«Может быть, Кирмуж врет? А деньги? Ведь Наурис получил деньги! Хотя… Конечно, Винарт не говорил профессору: «Ваше пожелание выполнено – Грунский убит“. Скорее, он сказал так: «Все в порядке, он вас больше не будет тревожить!“ И Наркевич, конечно, не стал опускаться до выяснения, что же произошло с ничтожным алкоголиком, которого он ненавидел из–за бесконечных унижений. Ненавидел его уже за то, что был вынужден с ним встречаться и говорить. Требования Грунского наверняка росли и становились наглее – с каждым новым переводом Наркевич все сильнее запутывался в расставленных сетях. А может быть, не интересовался потому, что боялся узнать слишком много?»
– Если не возражаете, профессор, давайте вернемся к деловому разговору.
– Кирмужа оставьте в покое. Я за него ручаюсь, – бросает Наркевич, словно приказывает. Должно быть, обычно его приказы выполняют.
Нет, этого уже не допросишь в нашем маленьком и узеньком кабинетике – ему это покажется несерьезным, формальным.
– Винарт Кирмуж обвиняется в соучастии в убийстве.
– Глупости!
– Я бы на вашем месте не говорил столь категорично. Кирмуж сознался.
Стоя, профессор крутит чайной ложкой в чашке, хотя сахар, наверно, давно растворился. Он нервничает.
– Кирмуж – друг моего сына Науриса, – взгляд Наркевича суров и остр, как клинок, приставленный к моему горлу. Будто требует от меня признания.
– Да, я знаю, – отвечаю совершенно спокойно, даже скучным голосом.
– Откуда вы это знаете? Кто вам это сказал?
– Уважаемый профессор! Мне поручили зайти к вам и выяснить некоторые вопросы. У меня работа такая. – Я выдерживаю паузу и слегка улыбаюсь. В надежде, что напряженность немного рассеется. – А вы хотите поменяться со мной ролями.
– И все же! Меня это очень интересует.
«А может, у него на уме только сын и был все время?»
– Соучастие в убийстве… В чем оно проявляется? Один бьет, другой стоит рядом?
– Формулировка примерно такая: определенное действие или бездействие каждого участника… Но мы снова уклонились от темы и никак не продвинемся вперед. Скажите, у вас дома есть хлороформ?
– У меня в доме есть разные медикаменты.
– На сей раз меня интересует только хлороформ.
– Есть. Конечно.
– Вы могли бы его показать?
– Всю бутылку? Ничем не примечательная прозрачная жидкость.
– Буду крайне признателен.
Пожав плечами, он выходит, сказав, что шкафчик с лекарствами находится в комнатке за кухней – там прохладнее.
Я поступаю как дилетант, но у меня уже нет другого выхода. Во всяком случае сейчас другого выхода не вижу. Не могу же я идти за ним следом! Вместо того чтобы дождаться Ирину Спулле, которая с понятыми составила бы опись бутылки, содержащей хлороформ, я допускаю, чтобы профессор подошел к шкафу с медикаментами сам.
Двери кабинета обшиты настоящей кожей. Должно быть, это сделано давно – теперь вполне можно обойтись дерматином. В кабинете почти все старинное или хотя бы под старину. На книжной полке, на письменном столе небольшие, приятные безделушки: бронзовая пепельница в виде плавающего листа, на котором сидит мальчик в остроконечной шапочке; японская фарфоровая гейша, она долго качает головой, если ее слегка заденешь; вологодская деревянная шкатулка с кружевной резьбой; гладкая пестрая раковина из Индийского океана и перочинный ножичек в кожаном чехле с серебряным черенком – раньше этот металл из–за дешевизны широко использовали и в изготовлении обыденных вещей. Я завидую людям, которых окружают такие тщательно, как для вечности сделанные безделушки, потому что с каждой, наверно, связаны особые воспоминания. Купленные в комиссионном магазине, они вряд ли интересны – ведь их не продают в комплекте с воспоминаниями.
Звукоизоляция в доме все же не очень хорошая – я слышу, как в кухне или где–то в соседней квартире со звоном разбилась тарелка, миска или что–то стеклянное.
«Я не должен отступать от намеченного плана – профессора следует отвезти в управление. В любую минуту он может узнать об аресте Илгониса Алпа и тогда поймет, что это связано с Наурисом. Что будет потом – трудно предугадать. Ясно одно – этот человек не погнушается обвинить нас во всех смертных грехах. Если в его распоряжении останется телефон, он попытается настроить против нас все инстанции и учреждения. Он обвинит нас в произволе, подлоге фактов и нарушениях процессуального кодекса. Шеф прав – я поступил опрометчиво, явившись сюда. В документе по задержанию записано: «В связи с убийством А. Л. Грунского“, но что, если профессор надо мной лишь посмеется? На Наркевича не наденешь железные наручники и не поведешь его за собой, как упрямого осла».
На книжной полке не видно томов собраний сочинений. Мне всегда казалось, что они нужны лишь ученым–литераторам или как декорация – даже у классиков обычно есть всего несколько вещей, которые читают следующие поколения.
«Если я…»
Дверь распахивается настежь и ударяется о стену.
Свалив на своем пути чайный столик, на меня набрасывается растрепанная Спулга Наркевич.
– Чтоб ты сдох, паршивый пес! – истерически кричит она. – Будь ты проклят навеки! Чтоб ты…
– Что сказали врачи «Скорой помощи»? – озабоченно спрашивает Шеф.
И хотя он не курит, в его кабинете воздух тяжелый: он сидит тут с самого утра, но почему–то никому не пришло в голову проветрить.
– Увезли. Сказали, постараются что–нибудь сделать.
– Что он выпил?
– В том–то и беда, что неизвестно. Падая, он уронил на себя шкафчик с лекарствами – бутылки и ампулы рассыпались по полу. Большинство из них разбилось. Но из классических ядов он, наверно, ничего не выпил: пульс слабо, но все же прощупывался.
– Тебе не следовало говорить о соучастии Кирмужа в убийстве. Когда он не обнаружил в шкафчике бутылку с хлороформом, ему и так сразу стало ясно, что только Наурис мог ее прибрать.
– Может, о Кирмуже не следовало…
– От этого уголовного дела я тебя отстраню.
– Почему?
– Чтобы тогда, когда от меня потребуют отчета, я мог сказать, что кое–что уже предпринял для пользы дела и с философским спокойствием добавить: от мягкотелых лейтенантов мало пользы, от жестких лейтенантов много вреда…
– Я, конечно, допустил глупость, но…
– Чем старше я становлюсь, тем больше в мире замечаю загадочного, мимо чего в молодости пробегал, не задумываясь. Ты спрашиваешь: почему? Не знаю. Могу только ответить: так надо! Вот в этом я уверен.
– Кроме того, ведь я и не лейтенант. Уже давно.
– Но так лучше звучит. Ступай и не обижайся на меня!
На улице идет белый снег. Надеюсь, теперь он надолго.