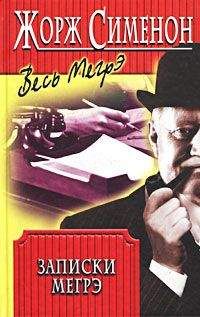— Гадость какую-нибудь?
— Расскажу, когда выйдем.
Очкарик между тем подходил то к одной, то к другой группе гостей, и все, по-видимому, забавлялись на мой счет.
Все, кроме Луизы, — она в тот вечер несколько раз отказывалась танцевать, предпочитая болтать со мной.
Едва мы вышли, я опять спросил Феликса:
— Что он сказал?
— Сперва ответь мне правду: чем ты занимался до того, как стал секретарем комиссара?
— Ну… служил в полиции…
— Форму носил?
Вот оно что! Вот где собака зарыта! Очкарик видел меня когда-то в форме, а теперь узнал.
Представляете себе? Рядовой полицейский среди господ из дорожного ведомства!
— А она что сказала? — еле выдавил я из себя.
— Она была на высоте. Она всегда на высоте. Ты мне не веришь, но сам увидишь…
Бедняга Жюбер!
— Она ответила, что форма, несомненно, шла тебе больше, чем пошла бы ему.
И все же в следующую пятницу я не явился на бульвар Бомарше. Я избегал Жюбера. Через две недели он сам ко мне пришел.
— Кстати, о тебе справлялись в прошлую пятницу.
— Кто?
— Мадам Леонар. Спрашивала, не заболел ли ты.
— Я был очень занят.
Но я не сомневался, что мадам Леонар заговорила обо мне потому, что ее племянница…
Ладно! Пожалуй, не стоит входить в дальнейшие подробности. Мне и без того придется отстаивать только что написанное, чтобы оно не попало в мусорную корзину.
Примерно в течение трех месяцев Жюбер, сам того не подозревая, играл незавидную роль, хотя мы вовсе не собирались его обманывать. Он приходил за мной в гостиницу и повязывал мне галстук, ссылаясь на то, что я не умею одеваться. Он говорил мне, видя, что я в одиночестве сижу в уголке гостиной:
— Поухаживал бы ты за Луизой. Ты просто невежа.
Он настойчиво твердил, когда мы выходили на улицу:
— Напрасно ты думаешь, что ей с тобой неинтересно. Напротив, ты ей очень нравишься. Она постоянно о тебе спрашивает.
Незадолго до Рождества приятельница Луизы, та, что немного косила, стала невестой пианиста, и они перестали бывать на бульваре Бомарше.
Не знаю, то ли поведение Луизы охладило пыл ее поклонников, то ли мы с ней не очень ловко скрывали свои чувства. Как бы то ни было, но с каждой пятницей число гостей в доме Жеральдины и Ансельма убывало.
Решительное объяснение с Жюбером произошло в феврале у меня в комнате. В ту пятницу он пришел не во фраке, что я сразу заметил. Лицо его выражало горечь и покорность судьбе — ни дать ни взять вылитый актер «Комеди Франсэз»!
— Я все же пришел завязать тебе галстук, несмотря ни на что! — сказал он, криво усмехаясь.
— Ты сегодня занят?
— Напротив, свободен, совершенно свободен, свободен как ветер, свободен как никогда! — Стоя передо мной с белым галстуком в руке, он поглядел на меня в упор и проговорил: — Луиза мне все сказала.
Меня словно обухом по голове ударили. Мне-то она еще ничего не сказала. И я ей тоже еще ничего не сказал.
— О чем ты говоришь?
— О тебе и о ней.
— Но…
— Я ей задал вопрос. Специально ходил к ней вчера.
— Какой вопрос?
— Я спросил, согласна ли она выйти за меня.
— Она сказала, что нет?
— Она сказала, что нет, что очень хорошо ко мне относится, что я всегда буду ее лучшим другом, но…
— Она говорила обо мне?
— Прямо нет.
— Так что же?
— Я все понял! Мне следовало бы понять это с первого вечера, когда ты объедался пирожными, а она понимающе смотрела на тебя. Если женщина так смотрит на мужчину, который ведет себя как ты тогда…
Бедный Жюбер! Мы почти сразу же потеряли его из виду, точно так же как всех господ из дорожного ведомства, за исключением дядюшки Леонара.
Несколько лет мы не знали, что сталось с Жюбером.
Мне было уже под пятьдесят, когда однажды в Марселе я зашел в аптеку на улице Канебьер купить аспирину и вдруг услышал возглас:
— Мегрэ!
— Жюбер!
— Что ты поделываешь? Впрочем, глупый вопрос, я знаю все из газет. Как Луиза?
Потом он рассказал мне о своем старшем сыне, который по иронии судьбы готовился к экзамену на дорожного инженера.
После исчезновения Жюбера на бульваре Бомарше по пятницам стало собираться еще меньше народу, и подчас даже некому было аккомпанировать танцам. В этих случаях за пианино садилась Луиза, а я переворачивал страницы, пока одна-две пары кружились в столовой, казавшейся теперь слишком просторной.
Я, кажется, так и не спросил Луизу, согласна ли она выйти за меня. Чаще всего мы говорили о моей профессии, о полиции, о работе инспектора.
Я сказал ей, сколько буду получать, если меня наконец переведут на набережную Орфевр, и добавил, что этого придется ждать по крайней мере еще года три, а до тех пор моего жалованья не хватит, чтобы создать приличный семейный очаг.
Рассказал я также о своих встречах о Ксавье Гишаром, уже тогда нашим шефом, — он не забыл моего отца и в определенном смысле взял меня под свое покровительство.
— Не знаю, нравится ли вам Париж. Мне ведь придется всю жизнь прожить в Париже.
— Но и здесь можно жить спокойно, как в провинции?
Наконец в одну из пятниц я не застал никого из гостей: Жеральдина в черном шелковом платье сама открыла мне дверь и как-то торжественно пригласила:
— Войдите.
Луизы в гостиной не было. Не было ни подноса с пирожными, ни напитков. Огня в камине тоже не было, потому что пришла весна. Гостей явно не ждали, и я застыл со шляпой в руке, чувствуя себя глупо во фраке и лаковых туфлях.
— Скажите, молодой человек, какие у вас намерения?
Это была, вероятно, одна из самых трудных минут в моей жизни. Голос Жеральдины звучал сухо и сурово. Я не смел поднять взгляда и видел на пестром узоре ковра лишь край черного платья и узкий кончик туфельки. Уши мои пылали.
— Клянусь вам… — пробормотал я.
— Мне клятв не надо. Мне надо знать, намерены ли вы жениться на ней.
Я наконец взглянул на Жеральдину — никогда прежде я не видел, чтобы лицо старой женщины было таким лукавым.
— Разумеется!
Мне не раз говорили потом, будто я вскочил как ужаленный и повторил громче:
— Еще бы, разумеется!
А в третий раз почти заорал:
— Разумеется, конечно!
Жеральдина, нисколько не повысив голоса, позвала:
— Луиза!
И Луиза, стоявшая тут же, за приоткрытой дверью, сразу вошла, смущенная, красная, точь-в-точь как я.
— Ну, что я тебе говорила? — спросила тетя.
— Как? — вмешался я. — Значит, она этого не предполагала?
— Я не была уверена. Это все тетя…
Опустим дальнейшее, иначе моя домашняя цензура вычеркнет весь этот эпизод.
Должен сказать, что старик Леонар проявил значительно меньше радости и так и не простил мне, что я не служу в дорожном ведомстве. Этот древний, едва не столетний старец, прикованный болезнями к креслу, покачивал головой, глядя на меня так, будто отныне что-то разладилось в механизме Вселенной.
— Придется вам взять отпуск и поехать в Кольмар.
Может быть, на Пасху, как вы думаете?
Жеральдина сама написала родителям Луизы и, подготовив их, чтобы смягчить удар, как она выражалась, сообщила новость.
Но на Пасху мне дали только двое суток отпуска.
И большую часть времени я провел в дороге — в ту пору поезда ходили значительно медленнее, чем сейчас.
Меня приняли учтиво, но без особого восторга.
— Лучший способ проверить, насколько серьезны чувства у вас обоих, — это расстаться на некоторое время. Луиза проведет лето здесь. Осенью вы опять к нам приедете.
— А писать ей я смогу?
— Не слишком часто. Скажем, раз в неделю.
Сейчас это кажется смешным. Тогда мне было не до смеха.
Я решил, и вовсе не из скрытой жестокости, пригласить Жюбера шафером. Когда я пошел к нему в аптеку на бульвар Сен-Мишель, его там уже не было и никто не знал, куда он делся.
Почти все лето я пробегал в поисках квартиры и нашел ее наконец на бульваре Ришар-Ленуар.
— Пока не подыщу чего-нибудь получше, понимаешь? А когда меня назначат инспектором…
в которой говорится вперемежку о башмаках с подковами, апашах, проститутках, отдушинах, тротуарах и вокзалах
Несколько лет тому назад стали у нас поговаривать, что неплохо-де учредить нечто вроде клуба, а еще лучше — устраивать каждый месяц обед под названием «Обед подкованных башмаков». Как бы то ни было, собрались мы в пивной «У дофины» за аперитивом. Обсудили, кого на обед допускать, кого нет. И совершенно серьезно задались вопросом, считать ли своими тех, кто работает на другую фирму, иначе говоря, сотрудников с улицы Соссе.
Как следовало ожидать, дело на том и кончилось.
В то время, пожалуй, лишь мы четверо из всех комиссаров уголовной полиции еще гордились прозвищем «подкованные башмаки», которым нас когда-то наградили сочинители песенок, молодые же инспектора, только что пришедшие со школьной скамьи, называли так между собой стариков, выслужившихся из рядовых полицейских.