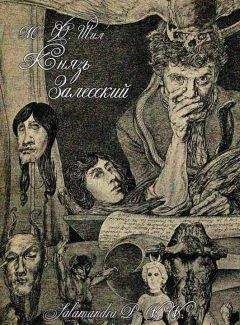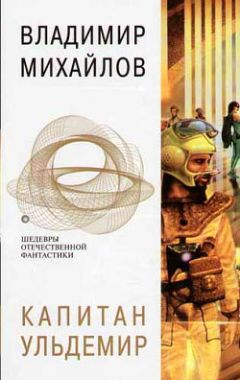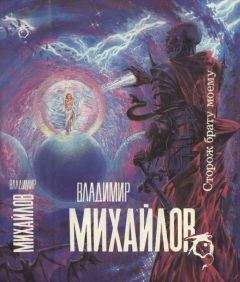На следующий день Германию потрясло сенсационное известие: профессор Шлешингер покончил с собой. Самоубийство, правда, некоторые газеты заменили убийством, не располагая ни крупицей доказательств того или другого. На следующий день в Берлине покончили с собой еще три человека, двое из которых были молодыми медиками; день спустя число умерших достигло девятнадцати, причем к бешеной пляске смерти присоединились Гамбург, Дрезден и Аахен. На протяжении трех недель с той ночи, когда профессор Шлешингер встретил свой необъяснимый конец, восемь тысяч человек в Германии, Франции и Англии умерли тем неожиданным и таинственным образом, что мы называем «трагическим»; многие, очевидно, наложили на себя руки, и у многих, как знак рабского и рокового подражания, под языком лежал намазанный медом обрывок папируса с нарисованными фигурками. Даже теперь — теперь, спустя годы — я содрогаюсь при этом ужасном воспоминании; но пережить такое, вдыхать каждодневно губительные миазмы, несущие удушающий запах смерти — ах, ужас и отвращение слишком глубоки и непосильны для смертного. Новалис где-то намекал на возможность (или желательность) одновременного самоубийства и добровольного возвращения всего рода людского во всепрощающее лоно нашего Отца — и тогда я этого ожидал, верил уже, что это происходит. Казалось, что старый, добродушный, кроткий ученый своей смертью навлек на мир проклятие и тем обратил нашу цивилизацию в одну всепожирающую могилу, всеобщий склеп.
Несколько дней я зачитывал Залесскому по порядку все известия о новых смертях. Казалось, он никогда не уставал от моего чтения; чаще всего он слушал меня с непроницаемым лицом, откинувшись на кушетке, покрытой шитым серебряной нитью покрывалом. Иногда он вставал и начинал бесшумно расхаживать по ковру; когда внимание князя привлекал тот или иной отрывок, шаги его делались быстрее, обретали сходство с раскачивающейся, неровной походкой плененного зверя в клетке — и после вновь возвращались к неторопливой размеренности. При любом перерыве в чтении он мгновенно с нетерпением оборачивался ко мне и просил продолжать; а когда запас газет подходил к концу, он впадал в настоящую ярость. Поэтому негр, Хэм, дважды в день — перед рассветом и в сумерках — брал мою двуколку и отправлялся в ближайший городок, откуда возвращался, нагруженный газетами. Мы с Залесским утро за утром и вечер за вечером жадно и нетерпеливо выхватывали газеты у него из рук и долгие часы пожирали глазами все удлинявшиеся списки мертвецов. Князь был не в состоянии спать. Он был очень умерен в потребностях и презирал ограниченность человеческих возможностей; когда его разум мчался в погоню за тайной, он забывал о еде; даже легкие наркотики, которые стали теперь его единственной едой и питьем, казалось, больше не могли его поддержать и успокоить. Очнувшись от дремы в самые глухие, как мне думалось, ночные часы — в этом сумрачном жилище стирались различия между днем и ночью — я заглядывал в комнату со сводчатым потолком и видел, как он сидит под синевато-зеленым светом кадильницы, выпуская из губ свинцовый дым и устремив неотрывный взгляд на квадратную пластину черного дерева, установленную на саркофаге лежащей рядом мумии. На этой доске он разместил бок о бок несколько вырезанных из газет гравюрок, которые воспроизводили рисунки на обрывках папируса, найденных во ртах мертвых. Я понимал, что все его мысли сосредоточились теперь на этих изображениях, ибо подробности смертей следовали с безотрадным однообразием и не давали никаких зацепок для расследования. В тех случаях, когда самоубийца оставлял ясные свидетельства того, каким именно образом расстался с жизнью, расследовать было нечего; а другие — богатые и бедные, пэры и крестьяне — тысячами уходили в далекий путь, не отметив начало его ни единым следом.
Возможно, именно поэтому Залесский через некоторое время забросил газеты, предоставив их просмотр мне, сам же посвятил свое внимание исключительно эбеновой доске. Зная, с какой смелостью и успехом он пускался в прошлом в духовные приключения — его изобретательность, силу воображения, царственную мощь его разума — я не сомневался, что Залесский сделал правильный шаг, который в конце концов себя оправдает. Гравюрки, получившие ныне такую печальную известность, казались точными копиями друг друга, однако в изображениях встречались мельчайшие несовпадения. Привожу факсимиле одного из рисунков, выбранного мною случайно:
Время тянулось медленно. Я с горечью наблюдал, как смертельная бледность постепенно разливалась по всегда пепельному лицу Залесского; бешеный огонь, что сверкал и плясал в его запавших глазах, начал казаться мне слишком вулканическим, демоническим, если быть честным: тайна, рассудил я наконец — если в эпидемии самоубийств имелась какая-то тайна — оказалась для него слишком глубокой, слишком темной. Быть может, по этой причине я все больше времени проводил в соседней комнате, служившей мне спальней. Именно там я как-то сидел, просматривая в газете последний список ужасов, когда из комнаты Залесского донесся громкий крик. Я подбежал к двери и увидел, что он застыл с безумным видом, вперив взгляд в эбеновую доску, которую держал в руке.
— Клянусь небом! — вскричал он, яростно затопав ногами. — Клянусь небом! Я последний глупец! Это ведь посох Феба в руках Гермеса!
Я поспешил к нему.
— Скажите же, — произнес я, — вы что-то нашли?
— Возможно.
— И за какой-либо из этих смертей стоит преступление — убийство?
— В этом, по крайней мере, я был уверен с самого начала.
— Господь всемогущий! — воскликнул я. — Способен ли человек сделаться таким дьяволом, диким зверем.
— Вы рассуждаете в точности как все, — сказал он с некоторым раздражением. — Убийство не по закону всегда является ошибкой, но не обязательно — преступлением. Вспомните Корде. Но если убийство одного человека носит поистине дьявольский характер, почему оно в качественном отношении уступает столь же дьявольскому убийству многих? С другой стороны, если бы Брут убил тысячу Цезарей — и всякий раз снова выказывал то же величественное самоуничижение — он, должно быть, стал бы на небесах святым.
Значение и смысл этого довода остались непонятны для меня, и я решил дождаться дальнейших событий. На протяжении этого и следующего дня Залесский, казалось, и думать забыл о трагедии — и преспокойно обратился к прежним занятиям. Он больше не интересовался новостями и не изучал рисунки на доске. Газеты, однако, продолжали прибывать ежедневно, и вскоре он разложил передо мной несколько газет, указав с загадочной улыбкой на небольшое объявление в каждой из них. Все объявления были одинаковы, и каждое гласило:
«Истинный сын Ликурга, располагающий важными известиями, желает знать место и время следующей встречи своей Филы. Адрес: Залесский, аббатство Р—, графство М―».
Не говоря ни слова, я удивленно переводил глаза то на газеты, то на него. Здесь мне стоит прерваться и упомянуть об одном примечательном ощущении, которое иногда рождала во мне дружба с князем. В этот миг оно охватило меня со всей остротой, с неприятной, раздражающей пронзительностью. Я ощущал, что меня вздымает в воздух — вверх — какая-то действующая извне сила; таковы, возможно, ощущения земляного червя, которого уносят в безграничные небесные выси крепкие когти орла. То было чувство утраты почвы — меня точно подхватил и унес в далекие новые земли всемогущий порыв яростного ветра. Нечто подобное я ощущал в «экспрессе», когда он вместе со мною несся с драконьим кличем по резким изгибам рельс — крылатый, качающийся, исступленный. И ощущение это нельзя назвать приятным.
— Я думаю, что на это, — произнес Залесский, указывая на объявление, — мы очень скоро получим ответ. Остается надеяться, что мы сразу же сумеем его понять.
Мы ждали весь этот день и всю ночь, и оба скрывали нетерпение, делая вид, что с головой ушли в свои книги. Если мне случалось задремать — я, открыв глаза, находил его бодрствующим над большим томом. Но ранним утром, когда невидимая нам предрассветная серость, должно быть, уже разлилась над землей, самообладание изменило Залесскому; было больно видеть, как он непрестанно расхаживает по комнате, что-то бормоча себе под нос. Он остановился лишь много часов спустя, завидев в дверях Хэма с конвертом в руке. Залесский схватил конверт — надорвал его — просмотрел содержимое — и с бранью швырнул конверт на пол.
— Проклятие! — простонал он. — Ах, проклятие! не могу понять — каждый слог непонятен!
Я поднял конверт и осмотрел его. Послание представляло собой обрывок папируса с хорошо известным ныне зловещим рисунком, однако центральные фигуры были нарисованы довольно небрежно. Внизу стояла дата, 15 ноября, и имя: «Моррис».