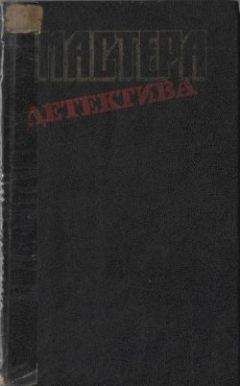– Если я хочу увидеться с Симоной Леруа, – снова заговорил Шабей, – то лишь для того, чтобы подробнее поговорить о Тернье. Я не знаю, делилась ли с ней мадам Сериньян своими секретами, но я хорошо видел, как она изменилась в лице, когда я заговорил с ней о Люсетте. К сожалению, в этот момент вошел Филипп Сериньян.
Окурок был таким коротким, что Грегуар, зажигая его, опалил волосы в ноздрях. На его приподнятое настроение это не повлияло.
– Ну вот! – радостно воскликнул он. – Теперь мы садимся на нашего любимого конька! Если невозможно сокрушить подозреваемого номер один, попытаемся сокрушить его свидетелей.
Затем, вновь помрачнев, поскольку окурок оказался гораздо короче, чем ему представлялось, он воспользовался случаем, чтобы отомстить.
– Только дурак осмелится предположить, что Тернье сговорились с Сериньяном убить его жену.
– И надо быть дважды дураком, – метко парировал Шабей, – чтобы думать, что я так думаю. И двух извилин в голове достаточно, чтобы понять: Робер Тернье – честный, не способный совершить дурного поступка… короче, славный малый. Быть может, слишком славный.
Грегуар хотел уязвить самолюбие своего коллеги, а вместо этого сумел лишь вызвать на губах последнего презрительную ухмылку.
– Двух извилин в голове достаточно, чтобы понять, что в частной жизни всем заправляет его сестра… Она – да, это характер, гнусный характер к тому же… Она вертит им, как хочет, и если пожелает, заставит его черное назвать белым. – Он коварно прищурился. – Вы успеваете следить за моей мыслью?
– Продолжайте, – сказал Грегуар без тени обиды в голосе.
Начисто отметая все, что ему мешало, Шабей продолжал сочинять, несмотря на явные противоречия. Он формулировал чудовищные вещи, как то: «Тернье назвал то время, какое назвала ему сестра». Словно Робер был умственно отсталым. Он видел лишь то, что хотел видеть, слышал то, что хотел слышать, и Грегуар понял: спорить – бесполезно.
– Значит, вы считаете, что Люсетта покрывает Филиппа Сериньяна?
– Она влюблена в него, это ясно, как день, и сразу бросается в глаза. Она все время торчит у него дома!
Из-за угрызений совести и потому, что это предположение все-таки было вполне реальным, Грегуар спросил:
– Она его любовница?
– У меня есть убежденность, но нет доказательств. Но скоро я их раздобуду и тогда…
Коротышка-инспектор умолк, чтобы набить табаком головку трубки, затем, выпрямившись во весь рост, прогнусавил в облаке тошнотворного дыма:
– Посмотрим, как они тогда станут выкручиваться.
Филипп снял с вешалки свой темно-серый с антрацитовым отливом костюм и выбрал темно-синий галстук.
– С белой рубашкой пойдет? – спросил он. Раймонда достала из зеркального шкафа рубашку и молча подала ему.
– Я тебя спрашиваю. Могла бы и ответить.
– Это будет идеально. И-де-аль-но, – проговорила она по слогам.
Она снова была не в духе.
– Ты недовольна, что я ухожу?
– Ты слишком часто стал уходить в последнее время, – процедила она сквозь зубы.
– Я должен вести обычный образ жизни.
Он разложил костюм на кровати и развернул рубашку, выверяя свои движения так же, как выверял слова.
– Если я буду сидеть здесь, как в монастыре, это может показаться странным.
– Но хотя бы вечера ты мог бы проводить со мной. Он чувствовал приближение грозы, но решил не накалять атмосферу.
– Вечера? Ты преувеличиваешь. Ужинать в город я выезжаю впервые.
– Если бы речь шла только об ужине!
Как комар, который всякий раз, когда его прогоняют, упорно возвращается в одно и то же место до тех пор, пока не укусит свою жертву, так и Раймонда изводила Филиппа весь день по поводу этого ужина у Тернье, отказаться от которого он не смог. Робер позвонил; Люсетта возобновила попытку…
– Не могу же я без конца отклонять их приглашения… – Он снова, без злости, отмахивался от комара. – Ну подумай сама: Робер этого не поймет.
Однако он плохо рассчитал удар, так как комар нашел все-таки место, чтобы ужалить.
– Кто мне докажет, что Робер будет там? Филипп рассвирепел.
– Ты опять за свое? После моего возвращения из Аркашона ты со своей дурацкой ревностью не даешь мне прохода!.. Я лезу из кожи вон, пулей лечу туда, на бешеной скорости возвращаюсь назад, рискуя сломать себе шею… А ты встречаешь меня в штыки…
Это была ужасная, редкая по жестокости сцена. Филипп приехал посреди ночи, довольный, что вернулся так быстро, удовлетворенный своей встречей с нотариусом, который обещал не тянуть с формальностями, приготовившийся заключить в объятия женщину, ожиданием доведенную до любовного исступления… Раймонда, чьи тысячу раз пережеванные за несколько часов подозрения превратились в уверенность, встретила его бранью.
Ошеломленный, захлестнутый потоком гневных слов, он сразу даже и не сообразил, что с ней происходит. Когда он, наконец, понял, в какое заблуждение она впала, потеряв всякое чувство реальности и способность мыслить критически, когда после попытки показать ей абсурдность ее предположений – «Она была у своей тетки… Ее тетка больна…» – он вызвал на себя лишь град упреков, оскорблений и угроз, хладнокровие оставило его.
Пощечина, которую он ей отвесил, была такой сильной, что Раймонда потеряла равновесие, а затем разрыдалась. Все закончилось в спальне, где и состоялось примирение…
Но их отношения с того дня оставались натянутыми. Сцена того вечера косвенно присутствовала во всех тех разнообразных стычках, что происходили между ними по поводу и без повода. Упавший духом, Филипп отказался продолжать спор, который скатывался к ссоре. Он молча оделся и только перед самым уходом произнес:
– А ты задачи мне не облегчаешь.
– Встань на мое место, – захныкала Раймонда. – Эта затворническая жизнь… Ждать, все время чего-то ждать…
Случались моменты, как этот, когда она вызывала жалость, но каждый раз воспоминание о том, с каким упрямством она отказывалась покидать Бур-ля-Рен, мешало Филиппу сменить гнев на милость.
– Ты сама выбрала это место, – сказал он невозмутимо. – Сидела бы сейчас в Рио, в шикарном отеле…
– Поклянись мне, что…
Он поклялся всем, чем она хотела, и вышел к машине, стоявшей у самой двери. Волна холода отступила перед огромными, отягченными водой облаками… Косой дождь сеял свои конфетти, которые порхали, переливаясь в свете фонарей, и липли к ветровому стеклу.
Поначалу Филипп вел автомобиль машинально, сосредоточенный на своих мыслях, но вскоре все его внимание переключилось на столичные пробки. Когда он выехал на авеню дю Марешаль-Лиотей, нервы его были на пределе, зато голова очистилась от опасений и тревог.
Он пересек широкие ворота – последний пережиток века, в котором царствовала упряжка – и проник в восхитительно нагретый вестибюль. Респектабельный лифт с бесшумным скольжением поднял его на шестой этаж, где он позвонил в двойную деревянную дверь квартиры Тернье.
Одна из створок повернулась, и в дверном проеме показалась приветливо улыбающаяся Люсетта.
– Добрый вечер, Филипп. Рада вас видеть.
По случаю она тщательно продумала свой туалет: аккуратно уложила волосы и надела изумрудное бархатное платье с широким вырезом, открывавшим надключичные впадины худосочной груди. Всю квартиру наполнял запах одуряющих духов, которыми она себя оросила.
– Очень рада вас видеть, – повторила она, вводя гостя в просторную гостиную в стиле Людовика XV.
Старинная мебель, дорогой ковер и потолок, украшенный огромной люстрой с хрустальными подвесками, почти такой же высокий, как два этажа дома в Бур-ля-Рен.
Люссетта усадила Филиппа на диван и, извинившись, отлучилась, чтобы принести два бокала и бутылку «Чинзано».
– Я совсем одна… Служанку отправила за покупками…
– Разве Робер не ужинает с нами? – спросил Филипп, почуяв западню.
Не ответив, она наполнила бокалы вином, один протянула ему, второй взяла сама и устроилась рядом с ним, бедром к бедру, хотя места на диване было предостаточно.
– За нашу дружбу, – сказала она, глядя ему прямо в глаза.
– За ваше здоровье, – сказал Филипп, чувствуя себя неловко.
Люси отпила глоток и прижалась еще плотнее.
– Вам будет неприятно, – пробормотала она прямо в бокал, отчего ее голос отдавался необычным резонансом, – вам будет неприятно, если мы поужинаем вдвоем?
Она смелела с каждым днем, становилась все более отважной, более наглой, более вызывающей. Зажатый между ней и подлокотником, Филипп чувствовал себя как в тесном костюме, правая рука его затекла.
«Если я шевельнусь, она упадет ко мне в объятия… Если не шелохнусь, я буду выглядеть идиотом… Если пошлю ее подальше, наживу себе врага…»
Из трех вероятностей его совсем не устраивала первая, а о третьей он не смел даже и думать.
– Если Робера что-то задержало…