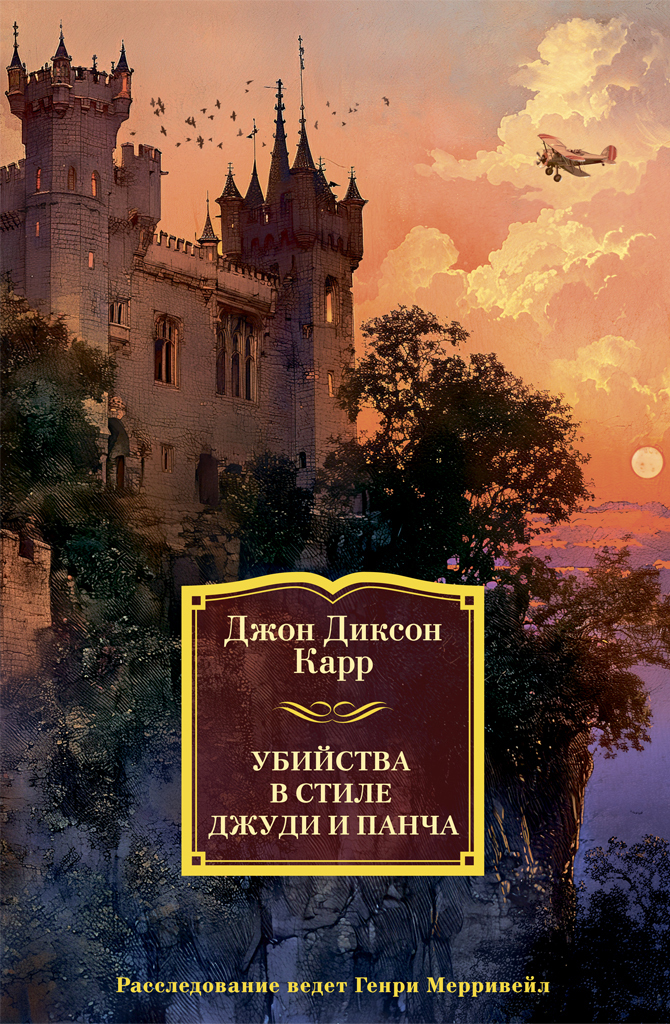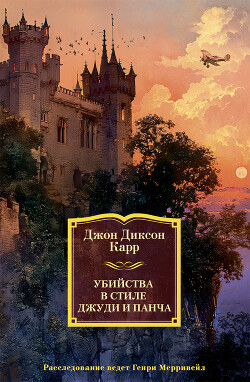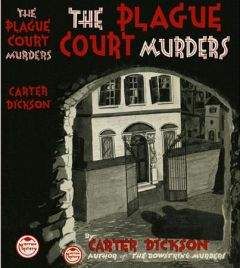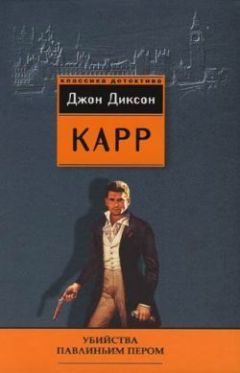любопытство. Послушай, ты уверена, что не будешь возражать, если?..
– Ладно, дорогой, – сказала Эвелин, – отправляйся. Но ради всего святого, постарайся, очень постарайся не опоздать на свадьбу! Ты знаешь, что произойдет, если ты не приедешь?
Я это знал. Я повесил трубку после долгих прощаний, Эвелин чуть ли не со слезами умоляла меня быть осторожным, и начал звонить, отменяя договоренности на этот вечер. Сэнди Армитидж, который должен был быть моим шафером, выказал большое недовольство. В три часа двадцать минут я наконец сел в такси, не взяв с собой даже зубной щетки, добрался до вокзала Паддингтон и вскочил в поезд вместе со свистком. Лондонские улицы в мареве жары казались желтыми и липкими, а в железнодорожном вагоне было еще хуже. Я устроился в углу пустого купе, намереваясь наконец все обдумать.
Мои мысли обратились к Стоуну. Он ворвался в мою квартиру, требуя сообщить, где находится Г. М., и вел себя таинственно, но, кажется, его хорошо проинформировали. Похоже, что Военное ведомство все же оказало ему посильную помощь. И все же из осторожного разговора Стоуна можно было понять одно: Г. М. вел себя странно. Теперь, конечно, поведение Г. М., выражаясь мягко, тоже вряд ли можно было охарактеризовать как обычное.
Мистер Джонсон Стоун был коренастым седовласым мужчиной в пенсне без оправы и массивным подбородком. Он бегал по всему Лондону за Г. М., после того как тот довел его до белого каления.
– Мне сообщили, – сказал он, искоса поглядывая на меня, – что ваш шеф – очень неординарный человек… Говорят, у него вошло в привычку разгуливать повсюду в маскировочной одежде.
Это было удивительно даже для Г. М., и я решил, что речь идет о шутке. Я дал Стоуну торжественную клятву, что глава Департамента военной разведки (или кто-либо другой в его подчинении) не стал бы ходить в маскировочной одежде. Но кто-то, очевидно, убедил Стоуна в обратном – и я смутно угадывал влияние Лоллипоп, блондинки-секретарши Г. М.
Стоун вышел от меня, бормоча, что это очень сомнительное дело, с чем я был склонен согласиться. Интересно, что задумал этот старый чудак?
Поезд должен был прибыть в Торки в семь тридцать восемь. В вагоне было жарко и пыльно. Но когда показались густые заросли деревьев и красная почва Девона, простиравшиеся на многие мили вдоль моря, я начал чувствовать некоторое успокоение. Когда проезжали Мортон-Эббот, я переоделся, и вскоре поезд подъехал к станции Торки; был ясный вечер, в воздухе ощущалось дыхание моря. Снаружи, когда я осматривался в поисках микроавтобуса до отеля «Империал», к обочине подкатил длинный синий «ланчестер». Шофер склонился над рулем, а на заднем сиденье, скрестив руки на животе, сидел, уставившись на меня, Г. М. Но я не сразу узнал его, и причиной была его шляпа.
Шляпой ему служила белая льняная панама с синей полоской, поля панамы были загнуты книзу. У Г. М. была массивная фигура весом в четырнадцать стоунов [3], очки сдвинуты на кончик крупного носа, уголки рта опущены, на широком лице застыло выражение необычайной враждебности. По-моему, никто за двадцать лет ни разу не видел его без цилиндра, который, по его словам, был подарком королевы Виктории. Нельзя было без смеха смотреть на эту легкомысленную панаму, опущенные поля которой придавали ей вид чаши, и на его злое лицо, когда он, моргая, неподвижно сидел, сложив руки на животе. Я начал понимать, о какой маскировке шла речь.
– Сними это, – сказал я сквозь зубы.
Г. М. внезапно оживился. Он повернулся ко мне с медленно нараставшим гневом:
– Вот как? Гори все огнем, неужели в этом мире больше нет верности? Неужели в этом мире нет верности? Вот что я хочу знать. И что не так с этой шляпой? Эй? Что в ней плохого? Это очень хорошая шляпа. – Он снял панаму, обнажив лысую голову, сиявшую в лучах вечернего солнца, моргнул, разглядывая свой головной убор, повертел его в руках и снова водрузил на голову. К чувству обиды присоединилось раздражение.
– Разве у меня нет права…
– Мы не будем обсуждать это сейчас, – сказал я. – Кстати, о лояльности: я здесь. Свадьба завтра в одиннадцать тридцать утра, так что давай займемся делом.
– Хорошо… сейчас, – сказал Г. М., с виноватым видом потирая подбородок. Затем он махнул рукой шоферу. – Проваливай, Чарли. Мистер Батлер отвезет нас обратно. Кстати, Кен, тебя зовут Роберт Т. Батлер. Это тебе о чем-нибудь говорит, а?
И тут произошло озарение.
– Примерно в 1917 году, – сказал я, поразмыслив, – в сентябре или октябре… Хогенауэр…
– Хорошо, – буркнул Г. М., когда я забрался на водительское сиденье, а он, рассыпая проклятия, сел рядом со мной.
Он велел мне ехать за город по маршруту автобуса в сторону Баббакомба, но мне показалось, что за его ворчанием скрывалось беспокойство, тем более что он сразу же приступил к делу.
– Это было больше пятнадцати лет назад, никто из нас не становится моложе, но я надеялся, что ты вспомнишь… Ты играл роль некоего Роберта Т. Батлера из Нью-Йорка, – произнес он, бросив на меня подозрительный взгляд. – Предполагалось, что ты объявленный вне закона американец, выступавший на стороне Германии и довольно тесно связанный с их секретной службой. Ты должен был расследовать дело Пола Хогенауэра. Хогенауэр был нашей головной болью. Вопрос заключался в том, являлся ли он именно тем, за кого себя выдавал, – добропорядочным британским подданным, сыном немца, получившего английское гражданство, и матери-англичанки, или же он был связан с парнем (они звали его Л.), выполнял для него кое-какую работу, которая привела бы его к расстрелу в Тауэре. Хм. Теперь вспомнил?
– Я не помню этого Л., кем бы он ни был, – сказал я, – но Хогенауэра – да, очень хорошо. Я также помню, что он получал справку о состоянии здоровья. Он не был шпионом. Он был именно тем, за кого себя выдавал.
Г. М. кивнул, поднес руки к вискам и медленно потер их с озабоченным видом.
– Ага. Да. Кен, этот парень был и остается в некотором роде гением… Когда вы познакомились, ему было около тридцати пяти. В тридцать пять ему предложили кафедру физиологии в Бреслау. Потом он занялся еще и психологией, каждую неделю у него появлялось новое хобби. Он увлекался шахматами и неплохо разбирался в криптограммах и шифровках. Вдобавок ко всему он был химиком. Наконец, вряд ли он чего-то не знал о гравировке, чернилах или красителях, что и стало одной из причин, по которой Уайтхолл [4] хотел сохранить с ним хорошие отношения (если он не