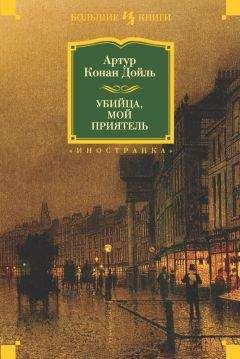Перкинс вёл себя безупречно; я хочу, чтобы об этом знали. Он был начеку и сохранял хладнокровие. Вначале я думал, не стоит ли круто повернуть и въехать на насыпь, но он как будто прочёл мои мысли.
– Я бы не делал этого, сэр, – сказал он. – На такой скорости машина перевернётся и придавит нас.
Конечно, Перкинс был прав. Он дотянулся до переключателя и убрал сцепление. Машина шла теперь свободно. Но мы продолжали мчаться на бешеной скорости. Он схватился за руль.
– Я поведу! – крикнул он. – Прыгайте, не упускайте шанса. Нам не одолеть этот поворот. Лучше прыгайте, сэр!
– Нет, – ответил я. – Я буду держаться до конца. Прыгай, если хочешь, Перкинс.
– Я останусь с вами! – прокричал он.
Будь это мой старый автомобиль, я бы резко нажал переключатель скорости и посмотрел бы, что выйдет. Думаю, скорость бы упала или в моторе что-нибудь сломалось. По крайней мере, это был шанс. Но сейчас я оказался беспомощен. Перкинс пытался подползти и помочь мне, но что сделаешь на такой скорости! Колёса свистели, огромный корпус машины скрипел и стонал от напряжения. Но фары ослепительно сияли, и машиной можно было управлять с точностью до дюйма. Помню, я подумал, какое страшное и в то же время волшебное зрелище мы представляем. Узкая дорога, и по ней мчится огромная, ревущая, золотистая смерть…
Мы сделали поворот. Одно колесо поднялось над насыпью почти на три фута. Я думал, всё кончено. Но, покачавшись мгновение, машина выпрямилась и помчалась дальше. Это был третий, последний поворот. Оставались ворота гаража. Они были уже перед нами, но, к счастью, чуть сбоку. Ворота находились около двадцати ярдов влево от шоссе, по которому мы ехали. Возможно, мне бы удалось проскочить, но, наверное, когда мы ехали по насыпи, рулевой механизм получил удар, и теперь руль поворачивался с трудом. Мы вынеслись на узкую дорожку. Слева я увидел раскрытую дверь гаража. Я изо всех сил крутанул руль. Мы с Перкинсом свалились друг на друга. В следующее мгновение, со скоростью пятьдесят миль в час, правое колесо ударилось что есть силы о ворота гаража. Раздался сильный треск. Я почувствовал, что лечу по воздуху, а потом… О, что было потом!
Когда сознание вернулось ко мне, я лежал среди каких-то кустов, в тени могучих дубов. Возле меня стоял человек. Вначале я подумал, что это Перкинс, но, взглянув снова, увидел, что это Стэнли – юноша, с которым я дружил, когда учился в колледже. Я всегда чувствовал к нему искреннюю привязанность.
Для меня в личности Стэнли было всегда что-то особенно приятное, и я гордился, что он симпатизирует мне. Я удивился, увидев его здесь, но я был как во сне, кружилась голова, я дрожал и воспринимал всё как должное, ни о чём не спрашивая.
– Ну и врезались! – воскликнул я. – Боже мой, как мы врезались!
Он кивнул, и даже в темноте я увидел его мягкую, задумчивую улыбку. Так мог улыбаться только Стэнли.
Я не мог пошевелиться. Сказать честно, у меня не было ни малейшего желания двигаться.
Но чувства мои были удивительно обострены. При свете движущихся фонарей я увидел останки автомобиля.
Я заметил кучку людей и услышал приглушённые голоса. Там стояли садовник с женой и ещё один или два человека. Они не обращали на меня никакого внимания и суетились вокруг машины. Внезапно я услышал чей-то стон.
– Его придавило. Поднимайте осторожно! – закричал кто-то.
– Ничего, это только нога, – ответил другой голос, и я узнал Перкинса. – А где хозяин?
– Я здесь! – воскликнул я, но, похоже, меня никто не услышал. Все склонились над кем-то, лежащим перед машиной.
Стэнли дотронулся до моего плеча, и это прикосновение было удивительно успокаивающим. Мне стало легко, и, несмотря на всё, что случилось, я почувствовал себя счастливым.
– Ну как, ничего не болит?
– Ничего, – ответил я.
– Это всегда так, – кивнул он.
И вдруг меня охватило изумление. Стэнли… Стэнли! Но ведь Стэнли умер от брюшного тифа в Блюмфонтейне во время Бурской войны! Это совершенно точно!
– Стэнли! – закричал я, и слова, казалось, застряли у меня в горле. – Стэнли, но ведь ты умер!
Он посмотрел на меня с той же знакомой, мягкой улыбкой.
– И ты тоже, – ответил он.
1913
И в том, что я, не принадлежа ни к одной из этих категорий, всё же получил тогда возможность брать книги на дом в «Иностранке», можно только усмотреть руку судьбы. Так я, благодаря всё тому же Конан-Дойлю, добрался до полуарестованных книг Аллана Кардека и Леона Дени и взял их в работу, к вящей пользе и выгоде многих российских читателей в последующем.
Возможно, что под этим заголовком были опубликованы ещё и другие рассказы, оправдывающие такое название, но в экземпляре, с которым мы имели дело, их было только два, что и вызывает недоумение.
После такого заявления г-на Панченко можно только ожидать, что он понемногу переведёт заново и остальные рассказы пресловутого сборника. «Весомое» обоснование им уже выдвинуто: прошлые переводы, видите ли, были сделаны в спешке и весьма приблизительно. Хотя на самом деле никто никуда не спешил и упрекать можно не «приблизительностью», а лишь чрезмерной точностью. Чтобы судить об этом, достаточно взять перевод на русский названия рассказа «о привидениях в новых домах» у него и у меня. Подоплёка у данного ремейка, разумеется, сугубо финансовая, но кое-кто может принять подобное заявление нашего коллеги за чистую монету. Поэтому приходится, со своей стороны, дать оценку переводческой манере г-на Панченко и К°: хотя эти новые тексты и читаются по-русски довольно хорошо – а это уже немало, – но признать их переводами в строго профессиональном смысле этого понятия, увы, нельзя, ибо они суть не переводы, а «подробные пересказы». Объясняю: нельзя считать переводом текст, в котором переводчик позволяет себе не только слишком большие синтаксические вольности, но и расцвечивает повествование подробностями, кои суть цветы его собственной фантазии. В оригинале – независимо от того, будут ли это рассказы самого Конан-Дойля или только данный «апокриф», – сих подробностей, как легко может убедиться каждый желающий, нет и помину. Авторский текст весьма скуп и строг. Именно поэтому тексты, написанные моими коллегами и мною, имеют гораздо более прав считаться переводами, и переводить эти вещи заново в манере г-на Панченко – значит попусту «изобретать велосипед» ради того только, чтобы украсить его потом ленточками и бантиками.
И сегодня положение в этом вопросе нисколько не изменилось: эти господа по-прежнему хотят, чтобы давно покойный писатель именно их порадовал сейчас чем-нибудь совершенно новым. Самое удивительное, что это до сих пор время от времени всё же случается.
С глазу на глаз (фр.).
Томас Роберт Мальтус (1766–1834) – английский экономист и священник, взгляды которого впоследствии были крайне несимпатичны марксистам, определявшим мальтузианство как «систему человеконенавистнических взглядов». Мальтус вульгаризировал принципы экономиста А. Смита и в таком виде противопоставлял их теориям Д. Рикардо. Суть этой системы заключается в утверждении, что существуют некие извечные естественные законы населения, заключающиеся в том, что население размножается быстрее, чем увеличиваются средства, необходимые для существования людей. Единственный способ для уменьшения нищеты сторонники мальтузианства видели в сокращении численности населения. – Здесь и далее примечания составителя настоящего сборника, кроме указанных особо.
Невымышленная история, пересказанная автором в сборнике «Strange Studies from Life» («Странные уроки, преподанные жизнью»).
Здесь надобно отметить, что в означенную эпоху всякий уважающий себя англичанин считал неудобным жить в квартире, помещавшейся только на одном этаже, и, сообразно с этим, дома, сдаваемые в аренду, проектировались в Англии совершенно иначе, чем в России и в остальной Европе. У каждого квартиранта были помещения во всех этажах дома, а также лестница, идущая до чердака. Если представить себе такой пятиэтажный дом, то получалась квартира в девять или десять комнат. В нижнем этаже помещалась кухня, на втором – столовая, на третьем – гостиная и кабинет; поднимаясь выше, мы попадали в спальню, а на самом верху оказывалась комната прислуги. Такая система постройки домов, разумеется, сильно увеличивала плату за квартиры, и вот почему впоследствии, приноравливаясь к карману бедных людей, в Англии стали строить европейские квартиры, где помещение ограничивалось одним этажом. Дома этого рода называли «флэтами» (теперь переводится как «квартира», от слова «flat» – плоский). «Флэты» предназначались для рабочих и бедняков. Средний же класс придерживался прежних традиций и жил в домах с многоэтажными квартирами.