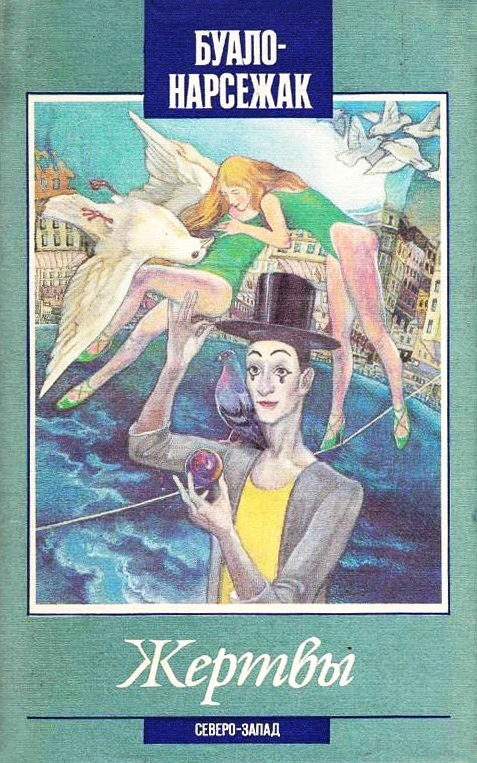или в комнате — то у нее, то у меня. И всегда говорили о Париже. Она мастерила занавески, кроила, шила. Я курил. Прикрыв двери, мы на какое-то время избавлялись от оглушительного шума. И все-таки приходилось включать вентилятор, перегонявший воздух справа налево и слева направо. Ветерок обвевал наши лица, трепал волосы Клер. Она смеялась:
— Наверное, я похожа на шалую собачонку.
В такие минуты мне хотелось рассказать ей все, спросить: «Кому из ваших близких могло прийти в голову попытаться занять ваше место, выдать себя за вас? Кто так хорошо знал вашу жизнь, чтобы присвоить себе даже ваши воспоминания, привычки, вкусы и манеры?» Это было бы так легко сделать, но я все не решался. Мне претило обвинять Ману; и я не хотел слышать, как ее станет уличать другая женщина. А главное, я вовсе не жаждал узнать, что Ману в действительности зовут Ивонной или Сюзанной и она замужем за мелким служащим, что я был для нее отдушиной в ее унылом существовании. Иной раз правда хуже лжи. Но были у меня и другие причины ничего не говорить Клер и выжидать. Сейчас, когда я осмысливаю прошлое и вижу его в истинном свете, они кажутся мне очевидными. Но тогда разобраться в них было куда труднее. Как выразить то, что я испытывал? Эти часы душевной близости были дороги нам обоим. Клер казалось, что меня привлекает она, в те самые минуты, когда мои мысли были заняты Ману. Нежность к той, с кем я был разлучен, несомненно, вносила в мои слова привкус ласки и тихой грусти, которые не могут оставить равнодушной ни одну женщину. Вскоре я заметил, что Клер нравятся эти беседы с глазу на глаз, что она ждет от меня вопросов и нередко сама на них напрашивается. Она охотно говорила о своем детстве, я же, закрыв глаза, представлял на ее месте Ману, которая наконец-то рассказывает мне то, о чем всегда наполовину умалчивала. Вентилятор издавал приглушенный шум, похожий на звук кинопроектора. У меня в голове словно загорался экран, и я видел Ману в детстве, Ману в лицее, Ману в Сорбонне и, наконец, Ману замужем… Когда же я говорил о себе, о том, кем я был и чего хотел, что я любил, стараясь избегать всякого намека на Ману, то в этих моих полупризнаниях, непосредственных и в то же время обдуманных, оставались пробелы, возбуждающие любопытство Клер. Очень скоро она поняла, что в моей жизни, как говорят, была женщина, и старалась подловить меня на каждом слове, так же как и я ее. Так, прибегая ко всяческим уловкам под видом полной откровенности, мы с ней кружили друг возле друга — а ставкой в этой игре была Ману. Нередко я и сам наводил разговор на эту тему.
— Пьер, вам следовало бы жениться, — говорила она.
— Я еще слишком молод. И я недостаточно серьезно отношусь к жизни. К тому же я еще не встретил ту, которая… ну, вы меня понимаете.
Она слишком хорошо понимала, и в том удовольствии, которое я испытывал, когда походя ранил ее, было что-то садистское. Ведь я знал, что, прикидываясь равнодушным или пресыщенным, причинял ей боль. Она не решалась быть резкой, упрекнуть меня во лжи. И прибегала к обинякам:
— Должно быть, среди ваших знакомых немало красивых и образованных молодых женщин. Вам бы подошла жена-романистка…
На сей раз ей удалось задеть меня за живое. Я отвечал грубым выпадом:
— Терпеть не могу женщин-писательниц.
И тут же снова старался ее уколоть:
— Я имел в виду не вас, Клер. Ведь вы не писательница.
— Кто же я, по-вашему?
— Ну… Просто женщина… Женщина, которая, как и я, ищет свою дорогу в жизни.
Все эти пошлости произносились с дальним прицелом. Они придавали нашей дружбе оттенок значительности, побуждая нас к новым, все более откровенным признаниям. Я терпеливо подстерегал любую возможность что-то выяснить. Чего же все-таки я ждал? Этого я и сам не смог бы объяснить. Мне нравилось, что жена Жаллю ломает себе голову над моими причудами. К тому же мне было с ней хорошо. Я чувствовал себя как выздоравливающий, который уже сожалеет о своей болезни и напоследок старается извлечь из нее все возможные выгоды. Клер заботилась обо мне так же, как прежде я сам заботился о Ману: была очень внимательной и заботливой и в то же время такой мягкой, какой умела быть она одна. Напавший на меня в ту пору душевный столбняк шел мне на пользу — я могу последовательно и дотошно обдумать поведение Ману. Тем хуже для Клер, если она не сумеет преодолеть свое влечение ко мне! Она отняла у меня Ману и я ей ничем не обязан!
Все мои домыслы ни к чему не вели. Мне никак не удавалось найти убедительное объяснение случившемуся. Допустим, Ману была вхожа в дом Жаллю. У нее были ключи от него, она знала его так, как будто бы сама там жила. Все это пригодилось ей, когда она разыграла передо мной прощальную комедию. И что же дальше? У меня было мелькнула догадка о каких-то махинациях с рукописью романа. Но я тут же зашел в тупик. Ведь рукопись была хорошей. Ее издали бы и без моего содействия… Конечно, Ману не могла предвидеть нашу встречу и ее последствия; но если она хотела любой ценой скрыть от меня подлог, то уж, верно, не стала бы выдавать себя за жену Жаллю, этим она бы только все испортила. Здесь я сталкивался с непреодолимым препятствием… Возможно, Ману и не была опытной лгуньей. Я же приписывал ей тонкий расчет даже там, где ей на самом деле приходилось импровизировать. В этом случае выдавать себя за Клер ей было проще всего. Такая догадка показалась мне многообещающей. Нетрудно вообразить тщеславную, одинокую женщину, разочарованную в жизни, которая, завидуя Клер, постепенно все больше и больше входила в ее роль; заимствовала ее воспоминания, путевые заметки и на их основе создала оригинальное произведение. С этой кражи, которой она не могла не стыдиться, должна была начаться для нее та новая прекрасная жизнь, о которой она всегда мечтала. Все это очень походило на правду. Мне захотелось убедиться, что я не ошибся. Нередко, когда я замолкал, Клер спрашивала:
— О чем это вы задумались, Пьер?
Я решил не упустить случай.
— Есть нечто, чего я никак не могу понять. Можете не отвечать, если я лезу не в свое дело. Но все-таки почему вы сюда приехали?