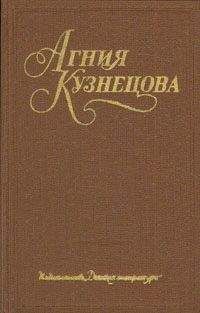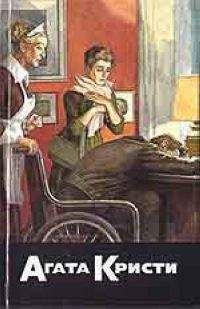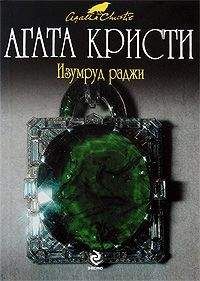— Мадам, — сказал Бреон, — мы никогда еще не пели вместе, и виной тому мои годы. Но судьба смилостивилась надо мной, и устранила эту несправедливость.
Паула мягко рассмеялась:
— Вы слишком добры, мосье Бреон. Я преклонялась перед вашим талантом, еще когда была никому не известной скромной певичкой. Ваш Риголетто… какое мастерство, какое совершенство! Никто не мог сравниться с вами.
— Увы, — ответил Бреон с притворным вздохом, — все это в прошлом. Скарпиа, Риголетто, Радамес… Сколько раз я исполнял их — и никогда больше не буду!
— Будете. Сегодня вечером.
— Вы правы, мадам, я и забыл. Вечером.
— Тоску с вами пели многие, — надменно сказала Незеркофф. — Но не я.
Француз поклонился.
— Это честь для меня, — мягко произнес он. — Большая честь, мадам.
— Здесь требуется не только певица, но и актриса, — вставила леди Растонбэри.
— Да, действительно, — согласился Бреон. — Помню, в Италии, еще совсем юнцом, я набрел в Милане на какой-то богом забытый театр. Билет обошелся мне всего в пару лир, но тем вечером я слушал исполнение не хуже, чем в нью-йоркском Метрополитен. Тоску исполняла совсем еще молоденькая девушка, и пела она как ангел. Никогда не забуду ее «Vissi D'Arte»! Такой чистый, ясный голос… Но вот драматизм — его не хватало.
Незеркофф кивнула.
— Это приходит со временем, — тихо сказала она.
— Да. Эта молоденькая девушка — Бьянка Капелли, так ее, кажется, звали, — я тогда принял участие в ее карьере. Я мог бы устроить ей блестящее будущее, но она была слишком легкомысленна… Слишком.
Он пожал плечами.
— А в чем это проявлялось? — послышался вдруг голос Бланш Эймери, двадцатичетырехлетней дочери леди Растонбэри, худенькой девушки с огромными голубыми глазами.
Француз учтиво повернулся к ней.
— Увы, мадемуазель! Она связалась с каким-то негодяем — бандитом и членом Каморры.[4] Потом он попал в руки полиции, его приговорили к смертной казни. Она пришла ко мне и умоляла что-нибудь сделать, чтобы его спасти.
Бланш Эймери не сводила с него завороженных глаз.
— И вы сделали? — выдохнула она.
— Я, мадемуазель? Да что я мог? Я был там всего лишь иностранцем.
— Но, наверное, у вас все же было какое-то влияние? — заметила Незеркофф своим звучным грудным голосом.
— Если даже и было, парень того не стоил. Вот для девушки я что мог сделал.
Он слегка улыбнулся, и молоденькой англичанке эта улыбка показалась вдруг настолько отталкивающей, что она непроизвольно отпрянула, почувствовав, что за его словами кроется нечто недостойное.
— Итак, вы сделали что могли, — произнесла Незеркофф. — Очень благородно с вашей стороны. Она, разумеется, оценила ваши старания?
Француз пожал плечами.
— Парня повесили, и она ушла в монастырь. Что ж, voila, мир потерял прекрасную певицу.
Незеркофф тихо рассмеялась.
— Мы, русские, куда менее предсказуемы, — беззаботно проговорила она.
Одна только Бланш Эймери, взглянувшая в этот момент на Коуэна, увидела, как он удивленно вскинул глаза, открыл было рот и тут же закрыл его, подчиняясь повелительному взгляду Паулы.
В дверях появился дворецкий.
— Обед, — объявила леди Растонбэри, вставая. — Ах вы, бедняжки, как я вам сочувствую. Наверное, это ужасно: вечно морить себя голодом перед выступлением. Но после я обещаю вам роскошный ужин.
— Мы подождем, — сказала Паула Незеркофф и тихо рассмеялась.
— После!
* * *
Только что закончился первый акт «Тоски». Зрители зашевелились, заговорили. В первом ряду, в трех бархатных креслах, восседали члены королевской фамилии, обворожительные и необыкновенно любезные. Все усердно шептались и переговаривались. Общее мнение было таково: в первом акте Незеркофф лишь с большой натяжкой оправдала ожидания зрителей. Большинству было просто невдомек, что только так и нужно было играть первый акт, сдерживая и свой темперамент, и мощь голоса. Здесь ее Тоска была легкомысленной пустышкой, забавляющейся с любовью, кокетливо-ревнивой и требовательной. Бреон, голос которого был уже далеко не тот, в образе циничного Скарпиа все же был очень импозантен. В его Скарпиа не было и намека на стареющего повесу. В исполнении Бреона это был симпатичный и чуть ли не положительный персонаж, сквозь внешний лоск которого лишь с большим трудом угадывалась тайная порочность. В заключительной сцене, где Скарпиа стоит в раздумье, смакуя свой коварный план, Бреон был просто неподражаем. Но вот занавес поднялся, начался второй акт — сцена в комнате Скарпиа.
На этот раз, при первом же выходе Тоски, драматический талант Паулы Незеркофф стал очевидным. Она изображала женщину, объятую смертельным ужасом, но играющую свою роль с уверенностью хорошей актрисы. Ее непринужденное приветствие Скарпиа, ее беззаботность, ее улыбчивые ответы! В этой сцене в Пауле Незеркофф жили только глаза. Ее лицо застыло в бесстрастной спокойной улыбке, и только глаза, в которых сверкали молнии, выдавали ее истинные чувства.
История продолжала развиваться: голос истязаемого Каварадосси звучит за сценой, и от напускного спокойствия Тоски не остается и следа… В безмерном отчаянии она тщетно молит Скарпиа о пощаде, упав к его ногам.
Старый лорд Лэконми, большой знаток музыки, одобрительно кивнул, и сидевший рядом иностранный посол, наклонившись к нему, прошептал:
— Этим вечером Незеркофф превзошла саму себя. Я не знаю ни одной актрисы, способной настолько отдаваться игре.
Лэконми кивнул.
И вот уже Скарпиа назвал свою цену, и Тоска, в ужасе отпрянув, бросается к окну. Слышится отдаленный бой барабанов, и она без сил падает на софу. Скарпиа стоит над ней, рассказывает, как его люди устанавливают виселицу… Потом наступает тишина, и в ней снова слышится далекий бой барабанов.
Незеркофф лежала на софе, откинувшись настолько, что ее голова почти касалась пола. Распустившиеся волосы скрывали ее лицо. И вдруг, в потрясающем контрасте со страстью и накалом последних двадцати минут, зазвучал ее чистый и высокий голос. Голос, которым — как она говорила Коуэну — поют юные певчие или ангелы.
Vissi d'arte, vissi d'amore,
no feci mai male ad anima vival.
Con man furtiva quante miserie connobi, aiutai.[5]
Это был голос непонимающего, удивленного ребенка.
И вот Тоска снова бросается на колени с мольбами, которые прерываются появлением сыщика Сполетты. Тогда она, опустошенная, умолкает, и Скарпиа произносит свои роковые слова, исполненные тайного смысла. Сполетта выходит. Наступает драматический момент, когда Тоска, подняв дрожащей рукой бокал вина, замечает лежащий на столе нож и прячет его за спиной.
Скарпиа, во всей своей зловещей красоте, воспламененный страстью, восклицает:
Tosca, finalmente mia![6]
Ответом ему служит молниеносный удар кинжалом и мстительный звенящий голос:
Questo e il baccio di Tosca![7]
Никогда еще Незеркофф не вкладывала столько чувства в эту сцену мщения. Зловещий шепот:
и затем странный, спокойный голос, заполнивший театр:
Вступает тема смерти, и Тоска, совершая ритуал ставит свечи по обе стороны головы мертвеца, кладет ему на грудь распятие… Задерживается в дверях, окидывая сцену прощальным взглядом… Звучит отдаленный раскат барабанов, и занавес падает.
Неподдельным на этот раз восторгам публики не суждено было, однако, длиться долго. Кто-то выбежал из-за кулис и поспешно направился к лорду Растонбэри. Тот поднялся навстречу и, после короткого разговора, повернулся и поманил сэра Дональда Кальтропа, известного лондонского врача. Почти немедленно тревожная весть распространилась по залу. Что-то произошло… несчастный случай… кто-то серьезно ранен. Один из певцов вышел на сцену и объявил, что по причине произошедшего с мосье Бреоном несчастья опера не может быть продолжена.
Тут же прокатился слух: Бреон заколот, Незеркофф потеряла голову, она настолько вошла в роль, что по-настоящему заколола своего партнера. Лорд Лэконми, обсуждавший все это со своим знакомым, иностранным послом, почувствовал, что кто-то коснулся его руки, и, обернувшись, встретил взгляд Бланш Эймери.
— Это не было случайностью, — сказала девушка. — Я знаю. Вы разве не слышали эту историю, которую он рассказал перед обедом про итальянскую девушку? Этой девушкой была Паула Незеркофф. Она сказала тогда, что она русская, и я видела, как удивился мистер Коуэн. Уж он-то прекрасно знает, что родилась она в Италии, хоть и взяла в качестве сценического имени русскую фамилию.
— Милая моя Бланш… — начал лорд Лэконми.