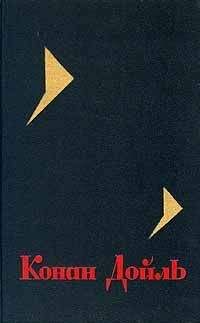ли… Да ну!
И, невольно вскинув руку, Акстафой устало заерзал на табурете, пепел с сигареты упал ему на брючину рейтуз.
– Так есть или нет?
Акстафой категорично, оскорбленно запротестовал:
– Нет и не было никогда, чураюсь я таких вещей, я привык себя с малолетства человеком умственного труда считать.
– Понимаю.
– А почему тогда спрашиваете? Странный вопрос. И это ко мне-то. К чему?
– Просто в голову пришло. У Егора Епифановича пистолет из квартиры пропал. Вот я и подумал, может, вы все-таки к нему заглянули… или, на крайний, голову в подъезд высунули, а пистолет, пистолет его, из которого Ефремов стрелял – как бы это выразиться, – слямзили у покойного. Он ведь совсем близко мог быть к вашей двери, покойный то на полдлины тела на лестничной площадке распростерся. Только, так сказать, ноги в квартире остались. Вот я и подумал, может, вы себя так защитить хотели? Ругать вас я не буду, чесслово, сам знаю, что среднестатистический человек в экстремальной ситуации склонен к опрометчивым поступкам, но если уж пистолет взяли, лучше не доводите до греха – сознайтесь сразу.
Прежде серое лицо Акстафоя пульсировало нечистой кровью:
– Глупости какие… среднестатистический? Причем тут какая-то статистика! Зачем мне такое вытворять?! Не брал я. Я же не самоубийца, не шизик вроде, не тупоголовый какой-нибудь, в конце концов, что мне на рожон лезть, под пули бросаться! Кто его убил, вон он пистолет и взял – а мне-то чужое оружие зачем?
– А свое?
– Нет, своего тоже нет. Ни своего, ни чужого, я – пацифист, до мозга костей, как говорится. И думал, убийца из пистолета стрелял.
Ламасов понимающе кивнул и степенно поклонился:
– Нам надо отлучиться. Спать не ложитесь.
– Уснешь тут теперь с вами, умеете вы успокоить.
– И дверь не запирайте, пока мы не уйдем.
– А скоро уже?
– Как закончим.
– А труп когда увезете? А то как бы дом не продушился… ну, запахом-то. Понимаете?
– Увезли уже.
– Ну, и на том благодарю.
– А стрелял убийца, к слову, из ружья.
Когда Ламасов обулся, и они с Данилой вышли, беззвучно притворив дверь, Данила застопорился на мгновение и опять заглянул к Акстафою, постучавшись костяшками пальцев.
– Алексей Андреевич? Еще минутку.
Акстафой выглянул из-за угла.
– Ну, что еще?
– Я ваш разговор слышал.
– Мой разговор… Какой разговор? Я молчал.
– Не сейчас, раньше. По телефону.
Акстафой пробормотал:
– А-а, и-и?
– У вас сын пропал?
– Что… сын? А, Глеб. Нет, просто загулялся, парень молодой, ему в жизнь входить, контакты налаживать и перспективы, а мать его на приволье не пускает, будто он только-только ясельную группу покинул! Парень яйца разбить не может, чтобы омлет приготовить, а ей все надо ему шапку да шарфик подвязать, сопли утереть, ползунки подтянуть да пеленки выстирать.
– А сколько ему?
– Да большой уже… Семнадцать лет, главное, что мозги есть.
– Ну, если он до утра не объявится, вы звоните, а то жена вас в покое не оставит, как пить дать – с ума сведет звонками.
– Ничего с ним не будет, найдется, он парень взрослый, а телефон я снял – потому как с ума она и вправду меня сведет.
Данила напряженно улыбнулся, и глаза его, крохотные и сощуренные, глядели куда угодно, только не на опротивевшего ему Акстафоя.
– До свиданья, Алексей. Спите крепко.
Акстафой небрежно, ущемленно, заносчиво фыркнул:
– До свиданья… и, скептически подтрунивая, добавил, – ни пуха, ни пера, следователи!
Глава 2. В капле дождя муравей
Когда Данила притворил дверь, то мгновенно почувствовал, что нестерпимо-душная, сырая, неприятно-скользкая, липкая и одуряющая атмосфера квартиры Акстафоя осталась позади, а теперь вибрирующие, гальванизованные легкие его надулись, переполняясь режущим воздухом, в котором перемешались приторное амбре проспиртованной стариковской крови и металлический, пульсирующий, вызывающий головную боль когтистый аромат красящих веществ – и все-таки здесь, на тусклой лестничной площадке, где несколько минут назад лежал труп Ефремова, здесь успевшему отвыкнуть от работы после семилетнего затворничества Даниле проще дышалось, чем в пахнущей испариной, куревом и нестиранным бельем квартире Акстафоя.
Отчасти такое осознание ободрило Данилу Афанасьевича и возможно, что в нем самом плещется неизрасходованная кровь, энергия и энтузиазм молодых лет, когда он еще помнил себя участником, непосредственным участником, соприкасавшимся с противоправными материями и даже наслаждавшимся своей работой; хотя теперь Данила ощущал, что каждое телодвижение его в застоявшемся воздухе места преступления, пропитанного человеческой кровью и человеческой, не побоюсь этого слова, смертью, давалось ему с трудом.
Он переучивался на новый лад и одновременно переживал предыдущий опыт, слепящие мгновения осознанности, что напоминали ему ежесекундно, ежеминутно, присутствовать, воспринимать, учиться заново дышать, мыслить, держать осанку при соучастниках, товарищах, но тело казалось чужим и далеким, Данила постоял в нем, как в облаке сокращающейся мускулатуры, катящейся по артериям и венам крови, пустого желудка, недвижимой печени, плавающих легких, постоял как на заимствованных ногах, и вновь принялся перемещаться в пространстве, которое в свою очередь стремилось вытеснить его, вытолкнуть – и не только физически, но и умственно!
Ведь Данила ощущал, что будто переменилось за прошедшие годы тонко настроенное, долгими годами учебы и практики отрегулированное и отлаженное для такой профессиональной деятельности магнитное поле его ума, старающееся отгородить его теперь мыслей об убийстве, о смерти в принципе и в частности о смерти Егора Епифановича, о преступлении, о расследовании, обо всем ставшим чуждым и гадким ему, и по-человечески неприятным, что изолировалось не зависящими от него силами, не допускалось, не пропускалось, громоздясь где-то за головокружительной и умопомрачительной пеленой, за накатывающими приступами нарастающей головной боли.
И вот сквозь эту незримую, ничем неощутимую, непреступную психическую ауру, глухо-наглухо обложившую его до тупости, до слепоты, до предобморочного состояния, Данила с усилием стремился сквозь нее проникнуть в мир, в потустороннюю ему область внешних, криминалистических взаимодействий, где все мерещилось ему зыбким и ненадежным, кроме Ламасова.
Одного-единственного человека, кому он безоговорочно верил.
Данила шагнул в квартиру Ефремова, где весь пышущий, живой, наэлектризованный, стоял Ламасов, этот высокорослый худощавый мосол, склонившийся, перелистывающий загнутые и интересующие его страницы телефонного справочника.
Данила оглядел коридор – горизонтальные вешалки из реек, одинокое потрепанное пальто на оставшемся крючке. В просторной полупустой общей комнате бросаются в глаза выступающие под подоконником металлические ребра радиатора, отапливаемого паром. Потолок покрыт водоэмульсионной краской. Оконные переплеты окрашены цинковыми белилами и покрыты лаком. На кухне техника, называющаяся странным словом – рефрижератор, газовая плита, тумбы для посуды, а у окна прямоугольный стол и два стула.
– Варфоломей Владимирович, на минутку вас! – послышался высокий писклявый голос.
Ламасов машинально, живо прошагал на кухню Ефремова,