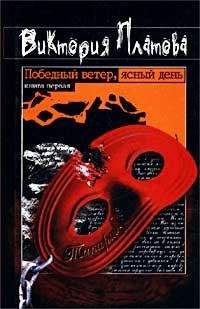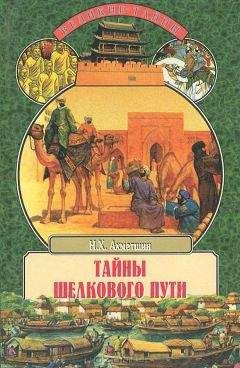– А, вы о той пьеске! – рассмеялся Лэтем. – Дражайшая Селия, если Морису хотелось эмоционально разрядиться, следовало сходить к психиатру, а не выплескивать все это в виде драматического произведения на бедного зрителя. Для того чтобы быть драматургом, требуются как минимум три вещи: уметь писать диалоги, понимать, что такое драматический конфликт и иметь хоть какое-то представление об устройстве сцены.
Это был излюбленный конек Лэтема, и на Селию реплика не произвела ни малейшего впечатления.
– Только умоляю, Оливер, не надо говорить мне о профессиональном мастерстве. Когда напишете что-нибудь, в чем будет хоть малая искра творческого начала и оригинальности, тогда и поговорим на эту тему. К вам, Джастин, это тоже относится.
– А как же мой роман? – обиделся Брайс. Селия с состраданием взглянула на него и тяжело вздохнула. О романе Брайса она явно предпочитала не высказываться. Даллиш сообразил, о чем идет речь: имелось в виду давнее и весьма скромное по объему сочинение, отличавшееся изысканной чувствительностью и хорошо встреченное критикой; на повторное свершение подобного рода энергии у него уже не хватило.
Элиза Марли засмеялась:
– А-а, та самая книжонка, про которую писали, что в ней чувства и действия на средний рассказ? Да это, собственно, и был не более чем рассказ. Подумаешь – даже я могла бы расчувствоваться на сто пятьдесят страниц.
Далглиш не стал ждать, пока Брайс разразится воплями протеста. Спор превращался в литературную перебранку. Адам давно знал эту писательскую склонность, но участвовать в сражении ему не хотелось. А следующим этапом непременно будет обращение к нему как к арбитру. Затем спорщики рьяно возьмутся за безжалостный разбор его собственных стихов. Конечно, привычная перепалка отвлекала присутствующих от мыслей об убийстве, но все же это был не самый лучший способ скоротать вечер.
Далглиш открыл дверь, чтобы впустить тетушку, принесшую из кухни поднос с кофейником, и, воспользовавшись случаем, выскользнул из гостиной. Бросать тетю в подобной ситуации было не очень красиво, но Адам знал, что она менее, чем он, чувствительна к колкостям гостей.
В его комнате, надежно отделенной каменным полом и дубовыми досками от голосов спорщиков, было мирно и очень тихо. Далглиш открыл задвижку на окне, выходящем в сторону моря, и с трудом, обеими руками распахнул створки – так сильно дул ветер. В комнату ворвался вихрь, зашелестел складками покрывала на кровати, смел со стола бумаги, быстро, словно невидимой рукой, перелистал страницы томика Джейн Остен на тумбочке. Адам, чуть не задохнувшись, прижался грудью к подоконнику, с облегчением подставил лицо холодным брызгав и сразу же ощутил на губах привкус соли.
Когда он вновь закрыл окно, тишина стала еще более всеобъемлющей. Рев прибоя превратился в приглушенный стон, который доносился откуда-то издалека, с неведомого берега.
Было холодно. Далглиш накинул на плечи халат и включил электрообогреватель. Потом подобрал разбросанные ветром бумаги, с преувеличенной заботливостью жил их в ровную стопку и положил на маленький письменный стол. Белые прямоугольные листы, казалось, взирали на Адама с укором, и он вспомнил, что так и не написал Деборе. Не то что бы он ленился или был так уж сильно занят расследованием. Далглиш прекрасно понимая, в чем тут дело. Он просто трусил. Боялся еще больше связать себя, пока не принял окончательного решения. А оно казалось сегодня столь же далеким, как в день приезда в Монксмир. Когда Адам прощался с Деборой, он не сомневался. – она понимает значение этой поездки для них обоих; знает, что он сбегает из Лондона не просто отдохнуть после треволнений предыдущего расследования. Иначе Дебора не отпустила бы его в Монксмир одного – не так уж занята она была своей работой. Но Адам не позвал ее с собой, и она ничего не сказала. Только на прощание произнесла: «Будешь в Блайборо – вспомни меня». Она училась там в школе, хорошо знала и любила Суффолк. Далглиш вспоминал о ней. И не только в Блайборо. Ему вдруг очень захотелось ее увидеть. Так сильно захотелось, что все опасения и соображения отошли на задний план. Увидеть ее лицо, услышать ее голос, а все остальное – страхи, недоверие к себе – несущественно и нереально, как жуть ночного кошмара в лучах утреннего солнца. Хорошо было бы поговорить с Деборой по телефону, но аппарат находился внизу, в гостиной. Далглиш; включил настольную лампу, сел и отвернул колпачок авторучки. Слова, как это иногда с ним случалось, пришли без всякого усилия, сами. Адам записал их, почти не думая, даже не спрашивая себя, насколько он сейчас искренен.
«Будешь в Блайборо, вспомни меня», –
Ты сказала, как если бы было
В мире средство надежнее силы,
Что к тебе привязала меня.
Околдован мой разум тобой,
Снова жаждет он в месте священном
Вспомнить лик, без того незабвенный, –
Ищет он новой встречи с тобой.
И в Блайборо, и где угодно
Не быть душе моей свободной.
«Это метафизическое сочинение, как большинство малозначительных стихов, написано с задней мыслью. И ты знаешь, с какой именно. Не стану утверждать, будто хотел бы, чтобы ты была здесь, со мной. Но я определенно хотел бы быть там, с тобой. Тут витает дух смерти и дух мерзости. Не знаю, какой из них хуже. Если только позволит Господь и суффолкская полиция, вечером в пятницу буду в Лондоне. Был бы рад, если в это время ты оказалась бы в Куинхайте».
Очевидно, письмо заняло больше времени, чем казалось Далглишу. Тетя постучала в дверь и сказала:
– Адам, гости уходят. Ты не хочешь с ними попрощаться?
Далглиш спустился вниз вместе с ней. Гости и в самом деле были уже у дверей. Адам с удивлением заметил, что на часах двадцать минут двенадцатого. На его возвращение никто не обратил внимания, как прежде никто не заметил его исчезновения. Огонь в камине погас, оставив кучку белого пепла. Брайс как раз помогал Селии Кэлтроп надеть пальто.
– Ах, как некрасиво было с нашей стороны засиживаться допоздна, – сказала та. – А ведь мне так рано вставать. Вечером позвонила Сильвия из «Сетон-хауса» и попросила отвезти ее с утра в гостиницу к Реклессу. Она хочет сообщить ему нечто очень важное.
Лэтем, уже стоявший на пороге, обернулся.
– Что она имеет в виду?
– Откуда мне знать, дорогой Оливер? – пожала плечами мисс Кэлтроп. – Она намекнула, что ей известны какие-то обстоятельства, связанные с Дигби. Скорее всего, бедняжка Сильвия просто выдумывает, вы ведь ее знаете. Но разве я могла ей отказать?
– И она даже не пояснила, в чем дело? – настаивал Лэтем.
– Нет. А мне не хотелось доставлять ей удовольствие расспросами. Впрочем, сильно торопиться утром я, пожалуй, не буду. Если буря не стихнет, вряд ли мне удастся ночью выспаться.
Лэтем явно хотел еще о чем-то спросить Селию, но она уже вышла. Тогда он рассеянно попрощался с хозяйкой и последовал за остальными. Вскоре до слуха Далглиша донесся приглушенный стук захлопываемых дверец и шум автомобильных моторов.
Далглиша разбудил вой ветра. Часы в гостиной как раз отзвонили трижды, и первой мыслью было: как странно, что такой нежный и ненавязчивый звук способен прорваться сквозь какофонию ненастья. Адам лежал и слушал. Сон понемногу уходил, ему на смену пришло сначала неопределенно приятное ощущение, потом легкое возбуждение. Далглиш любил эти монксмирские штормы. Удовольствие было знакомым и понятным: привкус опасности, иллюзия парения над хаосом и бездной, контраст между уютом постели и неистовством ночи. Адам не испытывал ни малейшей тревоги. «Пентландс» уже четыреста лет выдерживал натиск суффолкских ветров. Не рухнет он и сегодня. За минувшие годы Далглишу не раз приходилось слышать те же звуки. Четыреста лет люди лежали ненастными ночами под этим кровом и прислушивались к реву моря. Один шторм похож на другой; описать их можно лишь при помощи избитых клише.
Адам лежал и слушал, как ветер бешеным зверем бьется о стены, как неумолчно рокочет прибой, как монотонно шелестит дождь, как в редкие минуты затишья с крыши на подоконник осыпается мелкая галька. Без двадцати четыре шторм, казалось, вдруг угомонился. В какой-то момент стало так тихо, что Далглиш слышал собственное дыхание. Вскоре он задремал.
Проснулся он от порыва ветра столь свирепого, что дом весь содрогнулся. Море загрохотало так яростно, словно намеревалось обрушить свои валы прямо на крышу «Пен-тландса». Ничего подобного Далглишу прежде слышать не приходилось, даже в Монкс-мире. Спать при подобном грохоте было невозможно. Адама охватило неудержимое желание встать и одеться.
Он включил лампу, и тут в дверях его комнаты появилась тетушка, ее старый клетчатый халат был застегнут на все пуговицы, волосы тяжелой волной перекинуты через плечо.