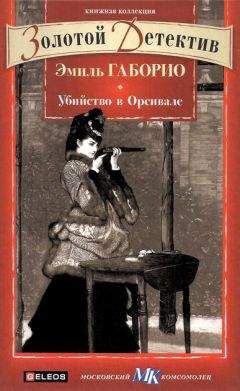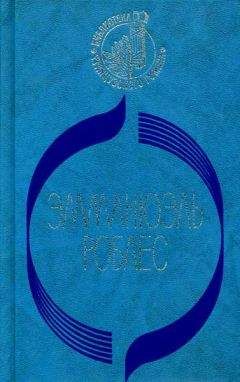— Но причину смерти будут выяснять, вы подумали об этом, Берта? Дело не обойдется без самого тщательного расследования.
На губах у нее появилась улыбка, проникнутая непоколебимой уверенностью.
— Пускай выясняют, — отвечала она, — пускай расследуют, ищут, все равно ничего не найдут. Вы полагаете, я настолько глупа, что пользуюсь мышьяком?
— Замолчите, ради бога!..
— Я добыла, один из ядов, пока неизвестных, которые не обнаружить никаким анализом; симптомы отравления этим ядом до сих пор неизвестны ученым.
— Но откуда у вас этот…
На слове «яд» он осекся и не посмел его выговорить вслух.
— Откуда он у вас? — поправился он.
— Не все ли вам равно? Я так все устроила, что человек, который мне его дал, подвергается не меньшей опасности, чем я, и знает об этом. Значит, с этой стороны бояться нечего. Я ему так щедро заплатила, что у него никогда не появится ни тени сожаления.
В ответ у Тремореля чуть не сорвались с губ чудовищные, немыслимые слова, ему хотелось сказать: «Тогда почему вы так медлите?» Он осекся, но она прочла эту мысль в его глазах.
— Я не спешу, потому что мне так удобнее, — сказала она. — Прежде всего мне нужно знать, что я получу по завещанию, вот я и пытаюсь это выведать.
В самом деле она только этим и занималась, и долгими часами, сидя у постели Соврези, потихоньку, с почти неуловимой тонкостью, с бесконечными предосторожностями наводила больного на мысль о его последних распоряжениях.
И наконец он сам обратился к этой теме, представлявшей для Берты столь мучительный интерес.
Соврези заговорил о том, что дела его не приведены в порядок, что самое его сокровенное желание не записано на бумаге на случай, если с ним произойдет несчастье, а он до сих пор как-то не задумывался над этим. И это, мол, совершенно не связано с его болезнью.
При первых же словах Берта попыталась его прервать. Подобные мысли для нее нестерпимы, запричитала она плачущим голосом. Она даже разразилась самыми настоящими слезами, которые, сверкая наподобие алмазов, струились по щекам и делали ее красоту еще неотразимее; батистовый ее платочек насквозь вымок.
— Глупышка, — уговаривал ее Соврези, — какая же ты глупышка, разве от завещаний умирают?
— Нет, но я не хочу…
— Оставь. Разве наше счастье было омрачено тем, что на утро после свадьбы я составил завещание, в котором отказал тебе все свое состояние? Постой-ка, у тебя же осталась копия, будь добра, принеси мне ее.
Она покраснела, потом. побледнела. Зачем ему эта бумага? Не хочет ли он ее разорвать? Но она тут же и успокоилась: нет смысла рвать документ, который можно уничтожить одним росчерком пера.
И все же она попыталась воспротивиться:
— Да я не помню, где она.
— Я помню. В левом ящике зеркального шкафа. Будь добра, сходи за ней.
Когда Берта вышла, Соврези сказал Эктору:
— Бедняжка Берта! Если я умру, она меня не переживет.
Треморель, не в силах скрыть терзавшую его тревогу, не нашелся, что ответить.
«Мыслимое ли это дело, чтобы он нас в чем-то подозревал! — подумал он. — Нет, не может быть!»
Вернулась Берта.
— Нашла, — сообщила она.
— Дай сюда.
Соврези взял копию завещания и прочел с видимым удовлетворением, кивая головой в тех местах, где особенно явственно сквозила его любовь к жене.
Дочитав, он попросил:
— Теперь принесите мне перо и чернила.
Эктор и Берта принялись его убеждать, что писать ему вредно, что он утомится, но больной был непреклонен.
Стоя в ногах кровати, так, что Соврези не мог их видеть, двое преступников обменивались тревожными взглядами. Что он пишет? Но вот он кончил.
— Возьми, — обратился он к Треморелю, — и прочти вслух то, что я написал.
Эктор повиновался желанию друга, хотя чувствовал, что ему нелегко будет справиться с голосом, и прочел:
— «Сегодня (день и число), страдая от болезни, но находясь в здравом уме и твердой памяти, я объявляю, что не меняю ни строчки в своем завещании. Любя жену более, чем когда-либо, я преисполнен желания в случае своей смерти сделать ее наследницей всего своего состояния.
Клеман Соврези»
Берта прекрасно владела собой и сумела скрыть охватившее ее ликование. В глазах ее сверкнуло торжество, но ей удалось сразу же придать им скорбное выражение.
— К чему это? — со вздохом произнесла она.
Однако это не помешало ей спустя полчаса, наедине с Треморелем, предаваться самой необузданной, самой безумной радости.
— Больше нечего бояться, — твердила она, — нечего! В наших руках отныне свобода, состояние, блаженство любви, наслаждения и жизнь, вся жизнь! Три миллиона! Эктор, у нас по меньшей мере три миллиона! Вот оно, завещание, у меня в руках. Отныне ни один поверенный не переступит порог этого дома. Уж теперь-то я потороплюсь!
Граф невольно радовался при мысли о том. что она получит состояние: от вдовы-миллионерши отделаться легче, чем от нищей. Поступок Соврези разрешил самые его мучительные опасения.
И все-таки эта вспышка неудержимого, истерического ликования, эта незыблемая вера Берты в свою безнаказанность ужаснули его. Ему бы хотелось, чтобы в своем злодействе она блюла большую величественность, вела бы себя пристойнее и сдержаннее. Он рассудил, что обязан хоть немного умерить ее восторг.
— Вы еще не раз вспомните Соврези, — мрачно заметил он.
— С какой стати? — фыркнула она в ответ. — Вот еще! Да и потом, воспоминания о нем не будут мне в тягость. «Тенистый дол» мне нравится, надеюсь, что мы и впредь будем здесь жить, только добавим к нему особняк в Париже, ваш особняк — мы его откупим. Какое счастье, Эктор, какое блаженство!
Самая мысль об этом будущем блаженстве повергла Тремореля в такой ужас, что он попытался отговорить Берту. Он надеялся ее растрогать.
— В последний раз заклинаю вас, откажитесь от этого чудовищного, пагубного плана. Вы сами видите, что напрасно тревожились: Соврези ни о чем не догадывается и любит вас по-прежнему.
Лицо молодой женщины внезапно омрачилось, она задумалась.
— Не будем больше об этом говорить, — сказала она, помолчав. — Возможно, я заблуждаюсь. Возможно, он ни о чем не подозревает, возможно, что-то обнаружил и хочет победить меня добротой. Дело в том, что…
И она замолчала. По-видимому, ей не хотелось его пугать.
Но он и без того был достаточно напуган. На другой день, не в силах наблюдать агонию, беспрестанно опасаясь выдать себя, он без предупреждения уехал в Мелен. Правда, адрес он оставил, и но первому ее зову трусливо вернулся. Оказалось, Соврези кричит на крик и требует его к себе.
Берта написала ему поразительно неосторожное письмо, полное таких несообразностей, что у него волосы встали дыбом.
Он собирался упрекнуть ее в этом, как только вернется, но она сама принялась осыпать его упреками.
— Зачем вы сбежали?
— Я не в состоянии здесь оставаться, мучаюсь, дрожу, томлюсь.
— Экий вы трус! — отрезала она.
Треморель хотел возразить, но она прижала палец к его губам, другой рукой указывая на дверь соседней комнаты.
— Тише! Там уже битый час совещаются трое врачей. Мне не удалось подслушать ни слова. Кто знает, о чем они говорят? Не успокоюсь, пока они не уедут.
У Берты были причины тревожиться. Когда болезнь Соврези обострилась в последний раз и он начал жаловаться на мучительную лицевую невралгию и на отвратительный привкус, перца во рту, доктор Р. беззвучно пробормотал какое-то слово. Простое движение губ, не больше, но оно не укрылось от Берты, и она полагала, что угадала в этом слове проблеск подозрения, означавшего для нее страшную угрозу.
Между тем, если бы у кого-нибудь и появились подозрения, они должны были немедля рассеяться. Спустя двенадцать часов симптомы совершенно переменились, и наутро больной испытывал совсем другие ощущения. Это причудливое течение болезни, это непостоянство ее признаков ставило медиков в тупик, опрокидывая все их догадки.
Последние дни Соврези уверял, что у него уже ничего не болит, и спокойно спал ночами. Правда, он высказывал разные незначительные жалобы, своей неожиданностью озадачивавшие докторов.
Он слабел час от часу, таял просто на глазах — это было ясно всем.
Тогда доктор Р. потребовал созвать консилиум, и Треморель вернулся в тот момент, когда Берта с тяжелым сердцем ждала решения врачей.
Наконец дверь малой гостиной отворилась, и, видя невозмутимые лица ученых мужей, отравительница несколько успокоилась.
Результаты консилиума оказались неутешительны. Все средства были испробованы и исчерпаны: было сделано все, что в человеческих силах. Крепкий организм больного также исчерпал все свои возможности.
Неподвижная, как мраморное изваяние, с глазами, полными слез, Берта выслушала этот безжалостный приговор, являя собой столь идеальное воплощение земной скорби, что даже старые врачи расчувствовались.