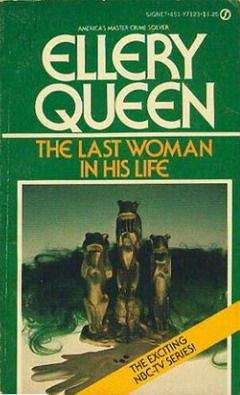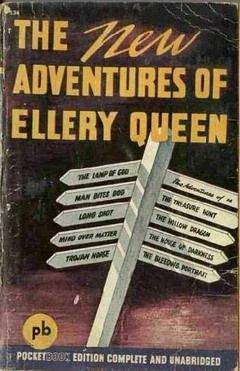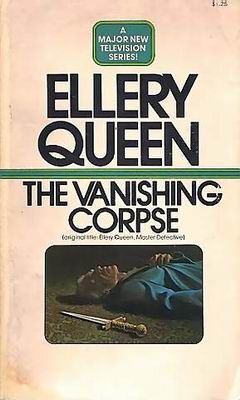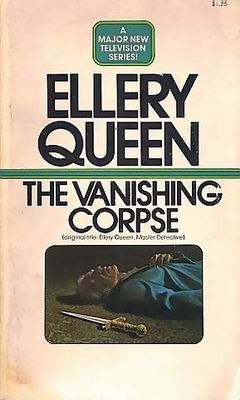Эллери узнал ее с первого взгляда. Во время одной из поездок в Райтсвилл ему пришлось побывать в больнице. Ухаживая за объектом его визита, Элис Тирни носила униформу медсестры, — это была крупная девушка с торсом солидных пропорций и чертами лица такими же невзрачными, как булыжники, которыми вымощены улицы Лоу-Виллидж, и столь же приятными для глаза.
— Едва ли вы помните меня, мисс Тирни.
— Конечно помню! — Девушка выпрямилась в шезлонге. — Вы великий Эллери Квин, божий дар Райтсвиллу.
— Не смейтесь надо мной. — Эллери опустился на стальной стул.
— Я и не думаю смеяться.
— Вот как? И кто же меня так называет?
— Очень многие. — Ее холодные голубые глаза поблескивали на солнце. — Конечно, я слышала, как некоторые говорят, что вы скорее дар дьявола, но брюзги есть повсюду.
— Вероятно, причина в том, что, когда я начал приезжать сюда, здесь возросла преступность. Закурите, мисс Тирни?
— Конечно нет. И вы тоже не должны курить… Проклятие! Никак не могу отделаться от профессиональной привычки читать нотации.
На девушке были жакет и слаксы мышиного цвета, которые ее не украшали, и Эллери подумал, что длинные прямые волосы тоже не подходят к ее лицу и габаритам. Однако это компенсировалось дружелюбием, которое, как он подозревал, она тщательно культивировала. Эллери мог понять, что Джонни Бенедикт с его поверхностным взглядом на женщин нашел ее привлекательной.
— Я так рада, что вы решили выйти из убежища, — оживленно продолжала Элис Тирни. — Джонни грозил нам всеми карами, если мы не оставим вас в покое.
— Вообще-то я пришел сюда только по одной причине: задать вопрос, который может показаться вам странным.
— Вот как? — Элис выглядела озадаченной. — Какой вопрос, мистер Квин?
Эллери склонился к ней:
— У вас сегодня что-нибудь пропало?
— Пропало? Что именно?
— Что-нибудь личное. Скажем, предмет одежды.
— Нет…
— Вы уверены?
— Ну, вообще-то я не проводила инвентаризацию. — Элис Тирни засмеялась, но умолкла, так как Эллери не засмеялся вместе с ней. — Вы серьезно, мистер Квин?
— Вполне. Не могли бы вы потихоньку подняться к себе в комнату, мисс Тирни, и проверить ваши вещи? Я бы предпочел, чтобы никто в доме не знал, что вы делаете.
Девушка встала, пригладила жакет и устремилась к дому.
Эллери ждал с терпением, обусловленным ситуацией, когда впереди маячит какая-то загадка, еще не приобретшая четких очертаний.
Элис вернулась через десять минут.
— Странно, — промолвила она, опускаясь в шезлонг. — Исчезла пара моих перчаток.
— Перчаток? — Эллери посмотрел на ее руки. — Каких именно, мисс Тирни?
— Белых длинных вечерних перчаток. Единственная пара, которую я взяла с собой.
— Вы уверены, что они у вас были?
— Я надевала их к обеду вчера вечером. — Ее щеки стали пунцовыми. — Джонни предпочитает, чтобы его женщины одевались безукоризненно. Он ненавидит неопрятность.
— Значит, белые вечерние перчатки. А еще что-нибудь пропало?
— Вроде бы нет.
— Вы проверили?
— Я просмотрела все вещи. Зачем кому-то могло понадобиться красть вечерние перчатки? В Райтсвилле от них мало толку. Я имею в виду — среди людей, которые воруют.
— Это, конечно, проблема. Прошу вас, мисс Тирни, никому не рассказывать о краже и о моих вопросах.
— Разумеется, если вы просите.
— Кстати, где все?
— Собираются ехать в аэропорт встречать мисс Смит — секретаршу Эла Марша. Она должна прилететь в половине шестого. Энни и Моррис готовят обед на кухне.
— Моррис Ханкер?
— Разве есть еще один Моррис? — Элис усмехнулась. — Очевидно, вы его знаете?
— Да. Но кто такая Энни?
— Энни Финдли.
— Финдли?..
— Ее брат Хомер держал гараж на Плам-стрит. Знаете, где граничат Хай-Виллидж и Лоу-Виллидж.
— Господи, Хомер Финдли и его «Эх, прокатитесь!». Как он поживает?
— Покоится в мире, — ответила мисс Тирни. — Сердечный приступ. Я закрыла ему глаза в больничной палате шесть лет назад.
Эллери удалился, размышляя о бренности всего земного и других вещах.
* * *
Инспектор Квин отправился на «кугуаре» в город и вернулся, гордый своей находкой. Он обнаружил неизвестный Эллери магазин, где продавали свежую рыбу и моллюсков.
— Не мороженых, сынок, — когда морозишь рыбу и особенно моллюсков, половина вкуса пропадает. Подожди, пока увидишь, какое меню я запланировал на сегодняшний вечер.
— Какое, папа?
— Я же сказал, подожди. Не будь таким любопытным.
То, что его отец подал к столу вечером, он сам назвал «ирландским буайесом»,[28] по мнению Эллери, ничем не отличавшимся от средиземноморской разновидности, за исключением того, что был приготовлен ирландцем, который исключил шафран («Терпеть не могу эту желтую гадость!»). Обед был великолепным, и Эллери воздал ему должное. Но когда инспектор предложил отправиться в город и посмотреть «один из этих фильмов, где все бегают голыми», Эллери стал менее общительным.
— Почему бы тебе не пойти без меня, папа? Этим вечером я не в том настроении, чтобы смотреть кино, даже «где все бегают голыми».
— Ну и чем же ты займешься?
— Послушаю музыку. Может, выпью сливовицы, аквавита или еще чего-нибудь из запасов Джонни.
— Может, я доживу до завтра, — проворчал его отец, но, как ни странно, удалился.
«У старика еще есть либидо», — с удовлетворением подумал Эллери.
Он не собирался общаться с Моцартом, тремя «Б»[29] или интернациональным содержимым бара Бенедикта. Как только звук мотора «кугуара» замер вдали, Эллери надел темный пиджак поверх белого свитера, взял фонарик в кладовой с инструментами, оставил свет в комнатах и играющую кассету в магнитофоне и выскользнул из коттеджа.
Луна только народилась, и тьма была такой глубокой, какой она может быть только в райтсвиллских лесах. Идя по тропинке к большому дому, Эллери прикрывал рукой свет фонаря. Вечер был сырым, и Эллери бы с удовольствием послушал симфонию лягушачьего кваканья, но, очевидно, сезон еще не наступил или же земноводных отпугивала прохладная погода, хотя официально весна началась уже неделю назад. Если бы инспектор спросил, чем он сейчас занимается, Эллери бы не смог дать исчерпывающий ответ. Он понятия не имел, какова его цель, но не мог выбросить из головы три кражи. А коль скоро они произошли в доме Бенедикта, его тянуло туда, как хиппи к марихуане.
В этих кражах ощущалось нечто чертовски логичное. Вечернее платье, модный парик и вечерние перчатки. Они соединялись друг с другом, как фрагменты картинки-загадки. Но трудность заключалась в том, что, собранные воедино, они не представляли собой ровным счетом ничего. Конечно, все три предмета обладали определенной ценностью, поэтому кражу по чисто материальным причинам не следовало сбрасывать со счета, но собеседник, сидящий в голове у Эллери, упрямо покачивал своей маленькой головой. То, что вещи украли с целью их носить, выглядело еще менее вероятным — если вором была одна из бывших жен, это означало, что она включила в число пропаж собственную вещь, дабы отвести от себя подозрения (абсурдная мысль, учитывая саму природу исчезнувших вещей), а если похитительницей была какая-то женщина из Райтсвилла, то где она могла бы носить украденное, не вызывая подозрений?
Морриса Ханкера Эллери исключил сразу же — старый янки не отобрал бы хлебной крошки у воробья, даже умирая с голоду. Энни Финдли, разумеется, была для него неизвестной величиной, и напрашивался простейший ответ, что толстая коротышка горничная, не ночующая в доме, не смогла противостоять искушению в виде платья с блестками, фантастического парика и нарядных перчаток. Но Эллери понимал, что Энни, как и Ханкер, зарабатывала на жизнь благодаря нанимателям типа Джона Бенедикта и в маленьком городке вроде Райтсвилла едва ли могла постоянно снисходить к подобным слабостям, не будучи быстро разоблаченной. Кроме того, вороватая наемная прислуга была явлением, практически неизвестным Райтсвиллу. Нет, Энни не годилась на роль виновной.
Тогда кто? Если это был какой-то бродяга, то он мог бы найти в доме Бенедикта куда более ценную и легко сбываемую с рук добычу, нежели платье с чужого плеча, зеленый парик и пара дамских вечерних перчаток (наверняка не первой свежести). Однако три женщины больше не сообщали ни о каких пропажах. А если бы что-то исчезло у Бенедикта или Марша, он бы уже слышал об этом.
Подобные внешне тривиальные загадки всегда приводили Эллери в отчаяние.
Он двинулся вокруг дома, стараясь ступать неслышно. Фасад и боковая сторона, где должны были находиться кухня и буфетная, были темными — очевидно, Ханкер и Финдли уже убрали после обеда и ушли домой. Но на террасу проникал свет сквозь французское окно, которое Бенедикт установил в задней стене гостиной, реконструируя фермерский дом.