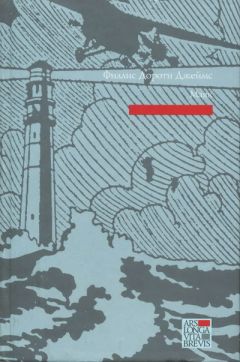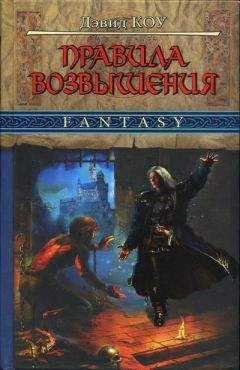Теперь, когда угасли страсти, Эмили Холкум вернулась на любимый остров своего детства, в каменный коттедж на краю отвесной скалы, в котором она намеревалась прожить все оставшиеся ей годы. Она не собиралась никому уступать этот коттедж, а уж Натану Оливеру тем более. Она ценила его как писателя — в конце концов, он во всем мире считался крупнейшим прозаиком нашего времени, — но она вовсе не могла согласиться с тем, что большой талант или даже гениальность дает этому человеку право быть еще более эгоистичным и еще чаще потворствовать своим капризам, чем это свойственно большей части представителей его пола.
Эмили застегнула ремешок часов. К тому времени как она возвращалась к себе в спальню, Рафтвуд уже успевал убрать поднос с утренним чаем, который подавался каждое утро ровно в шесть тридцать, а стол в столовой бывал уже накрыт к завтраку: домашнее мюсли с апельсиновым джемом, несоленое сливочное масло, кофе, подогретое молоко. Хлебцы подсушивались лишь после того, как Рафтвуд слышал, что она прошла мимо кухонной двери. О Рафтвуде она всегда думала не только с удовлетворением, но и с каким-то теплым чувством. Она приняла совершенно правильное решение по отношению к ним обоим. Он был шофером ее отца, и когда она, последняя из всей семьи, какое-то время жила в доме рода Холкумов на краю Эксмура,[7] уточняя детали договора с аукционером и отбирая те немногие вещи, которые хотела бы оставить себе, Рафтвуд попросил ее уделить ему время для разговора.
— Раз уж вы собираетесь постоянно поселиться на Острове, мадам, — сказал он, — мне хотелось бы попросить вас взять меня на должность дворецкого.
И члены семьи Холкумов, и их слуги всегда называли Кум не иначе, как Остров, а Кум-Хаус для них был просто «Большой дом».
— Господи, Рафтвуд, — ответила она тогда, поднявшись с кресла, — да зачем же мне там дворецкий? У нас и тут не было дворецкого с тех самых пор, как не стало дедушки, а шофер мне на Острове тем более ни к чему. Там вообще автомашины запрещены, кроме автотележки, которая по коттеджам еду развозит. Вы и сами это прекрасно знаете.
— Мадам, я употребил слово «дворецкий» как обобщающий термин. На самом деле я имел в виду выполнение обязанностей личного слуги, но, понимая, что эти слова могут быть восприняты как слова человека, служившего джентльмену, я счел, что термин «дворецкий» в данном случае гораздо более удобен, не говоря уже о том, что он совершенно точно выражает смысл сказанного.
— Вы слишком увлекаетесь Вудхаусом, Рафтвуд. А готовить вы умеете?
— Мои возможности в этом плане несколько ограниченны, мадам, но я надеюсь, что вы найдете результаты моих стараний удовлетворительными.
— Ну хорошо. Возможно, вам и не придется слишком много готовить. Вечером там все обедают в Большом доме, я скорее всего зарезервирую там себе место. Но как у вас со здоровьем — все в порядке? Откровенно говоря, я не представляю себя в роли сиделки: у меня просто не хватает терпения возиться с болезнями, как с моими собственными, так и с чужими.
— Вот уже двадцать лет, как я не испытывал необходимости обращаться к врачу, мадам. И я на двадцать лет моложе, чем вы. Простите, пожалуйста, что позволил себе упомянуть об этом.
— Естественно, это в порядке вещей — предполагать, что я покину этот мир раньше вас. Если такое случится, на Острове может не оказаться дома для вас. Мне вовсе не хотелось бы, чтобы вы в шестьдесят лет остались без крова над головой.
— С этим не будет проблем, мадам. У меня имеется дом в Эксетере,[8] который я в настоящее время сдаю со всей обстановкой на условиях краткосрочной аренды. Обычно университетским ученым. Я предполагаю со временем поселиться там, когда уйду на покой. Должен сказать, я испытываю привязанность к этому городу.
Почему вдруг Эксетер? — с удивлением подумала она тогда. Какую роль играл этот город в загадочном прошлом Рафтвуда? Что в этом городе такого, что может породить к нему привязанность у кого-либо, кроме его постоянных обитателей?
— Что ж, можно провести эксперимент. Но мне надо будет проконсультироваться с другими попечителями фонда. Это ведь означает, что фонд должен выделить мне два коттеджа, возможно, примыкающих друг к другу. Вряд ли кому-то из нас захочется пользоваться одной и той же ванной.
— Вне всяких сомнений, я предпочел бы отдельный коттедж, мадам.
— Ну что ж, я посмотрю, как это можно будет устроить, и мы попробуем поэкспериментировать примерно с месяц. Если окажется, что мы друг другу не подходим, расстанемся без обоюдных претензий.
Это происходило пятнадцать лет назад, а они все еще были вместе. Рафтвуд оказался превосходным слугой и на удивление хорошим поваром. Все чаще по вечерам она обедала не в Доме, а у себя, в коттедже «Атлантик». Он брал отпуск два раза в год, каждый раз ровно на десять дней. Эмили не имела ни малейшего представления о том, куда он ездил или что делал, а он ей никогда об этом ничего не рассказывал. Она всегда полагала, что те, кто выбирает сколько-нибудь длительную жизнь на острове, бегут от чего-то, пусть даже, как в ее собственном случае, перечень причин для бегства был обычным, принятым на вооружение всеми «мятежниками» ее поколения: шум, мобильные телефоны, вандализм, пьяные дебоши, политкорректность, неэффективность одних и нападки на высокое мастерство других путем приклеивания им ярлыка «элитизм», то бишь аристократическое высокомерие. Сейчас она знала о своем дворецком ничуть не больше, чем в те годы, когда он возил ее отца; а в то время она видела его очень редко: массивное неподвижное лицо, глаза, наполовину скрытые козырьком шоферской фуражки, волосы, необычайно светлые для мужчины, аккуратно подстриженные и полумесяцем лежащие на толстой шее. У них установился распорядок, устраивавший обоих. Каждый вечер, в пять часов, они усаживались в ее коттедже играть в скраббл, а после игры выпивали по паре бокалов красного вина — это был единственный момент, когда они пили или ели вместе, — и Рафтвуд возвращался к себе в коттедж, готовить обед для мисс Эмили Холкум.
Рафтвуда на Куме приняли, он стал частью жизни острова, но она чувствовала, что его привилегированное, не слишком обремененное тяжелой работой существование вызывает у других штатных сотрудников молчаливое негодование. У него были свои, четко обозначенные, хотя и неписаные обязанности, но даже в тех редких случаях, когда происходило что-то непредвиденное, он никогда не предлагал помочь. Все считали, что он предан своей хозяйке как последней из рода Холкумов; она же думала, что это вряд ли возможно, да и вряд ли стала бы приветствовать такую преданность. Однако она признавалась себе, что побаивается, как бы он не стал ей совершенно необходим — настолько, что обойтись без него она уже не сможет.
Вернувшись в спальню, где было два окна — одно смотрело на море, другое на противоположную сторону, на остров, — она прошла к северному окну и распахнула створки. Ночь была бурной, но сейчас ветер утихомирился, сменившись легким бризом. Там, где кончалась площадка, ведущая к переднему крыльцу, земля полого поднималась вверх, и на гребне взлобка она увидела молчаливую фигуру, стоящую твердо и неподвижно, словно статуя. Человек стоял всего-то футах в шестидесяти от нее, и Эмили поняла, что он, должно быть, ее заметил. Она отодвинулась от окна, но продолжала наблюдать за ним так же пристально, как — она это знала — он наблюдает за ней. Он стоял недвижимо, его темная, застывшая фигура представляла резкий контраст с развевающимися волосами, которые метались из стороны в сторону под ветром. Он походил бы на изрыгающего проклятия ветхозаветного пророка, если бы не вызывающая замешательство неподвижность. Он неотрывно глядел на коттедж с таким яростным вожделением, какое — она явственно ощущала это — не могло объясняться причинами, которые он приводил, требуя, чтобы этот коттедж предоставили ему. Он говорил, что всегда приезжает на остров в сопровождении своей дочери Миранды и литредактора Денниса Тремлетта, поэтому ему требуются два смежных коттеджа. На острове Кум только коттедж «Атлантик» состоял из двух отдельных помещений, соединенных общей стеной, и был поэтому самым желанным из всех. Может быть, этому человеку так же, как и ей, было необходимо жить на грозном краю отвесной скалы, слышать, как в тридцати футах под ней днем и ночью грохочет прибой, швыряя об утес волны? Ведь это тот самый коттедж, где этот человек родился и жил, пока ему не стукнуло шестнадцать, когда он покинул Кум, ничего никому не сказав, и в полном одиночестве взялся пробивать себе дорогу к писательству. Не это ли кроется за его требованием? Неужели он убедил себя, что его талант увянет, если он не получит коттедж «Атлантик»? Он на двенадцать лет младше ее, так неужели же у него родилось предчувствие, что его творчество и его жизнь близятся к концу? Что дух его не найдет покоя, если только он не поселится в том доме, где был рожден?