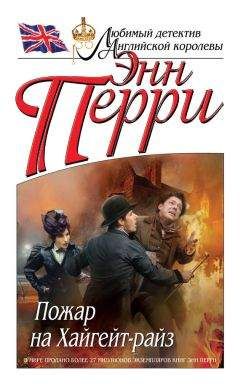– Да не знает она ничего! – продолжал настаивать Шоу. – Клем ничего ей не говорила – просто потому, что это будет, как вы сами сказали, невыносимо. Старина Джозайя, помогай ему Господь, считает, что епископ был чем-то вроде святого. Этот проклятый витраж в церкви – целиком его идея…
– Нет, она знает, – еще раз повторила Шарлотта, чуть наклоняясь вперед. – Я видела это по ее глазам, когда она смотрела на Анжелину и Селесту. Она в ужасе ждет, когда это выплывет наружу; она уже в отчаянии и жутко этого стыдится.
Так они и сидели за столом, упорно глядя друг на друга, оба уверенные в своей правоте, пока наконец лицо Шоу начало потихоньку проясняться – осознание услышанного было так очевидно, что дальше она говорила уже почти автоматически.
– Ну, что? Что вы поняли?
– Что Пруденс ничего не знает о деньгах Уорлингэмов. И это не то, чего она боится, глупая женщина…
– Тогда чего же она боится? – Шарлотте не понравилось, что доктор обозвал Пруденс глупой, но не этим сейчас следовало заниматься. – Чего она боится?
– Джозайи она боится. И презрения собственной семьи, их негодования…
– Презрения? За что? – снова перебила она его. – В чем тут дело?
– У Пруденс шестеро детей. – Доктор печально улыбнулся, его переполняла жалость. – И все роды у нее проходили очень тяжело. В первый раз они длились двадцать три часа, прежде чем ребенок наконец появился на свет. Сплошная боль. Во второй раз было почти то же самое, и я предложил ей анестезию. И она согласилась.
– Анестезию? – Тут Шарлотта начала понимать, что именно так ужасало Пруденс. Она припомнила высказывания Джозайи Хэтча насчет женской доли и родовых мук, которые, по его убеждению, есть проявление Божьей воли. Конечно, он, подобно многим другим мужчинам, будет считать применение анестетиков при родах уклонением от ответственности истинной христианки. Большинство врачей даже не станут предлагать чего-то подобного. А Шоу дал Пруденс возможность сделать свой выбор, не спрашивая разрешения у мужа и даже не сообщив ему об этом, – и теперь она живет в страхе, чувствуя свою моральную ответственность и вину, опасаясь, что доктор может нарушить молчание и все рассказать ее мужу.
– Понятно, – со вздохом произнесла Шарлотта. – Как это трагично… и как абсурдно! – Она с трудом могла припомнить, какую боль испытывала при родах. Природа щадит человека, предоставляя ему возможность многое забывать, так что все неприятное остается пребывать где-то в дальнем уголке памяти; а ее воспоминания были не столь ужасны, особенно в сравнении с памятью многих других женщин. – Бедная Пруденс! Вы ведь никогда ему об этом не скажете, правда? – Еще не успев договорить, она поняла, что вопрос был ненужный. И еще – Шарлотта испытывала к нему благодарность, что он не разозлился от самих ее расспросов.
Шоу улыбнулся и ничего не ответил.
Она сменила тему:
– Как вы думаете, это будет прилично, если я приду на похороны Эймоса Линдси? Он мне нравился, даже при том, что мы недолго были с ним знакомы.
Выражение его лица снова смягчилось, и на мгновение стало понятно, как ему больно при упоминании о Линдси.
– Я бы очень хотел, чтобы вы там присутствовали. Я должен буду произносить надгробную речь. Все это будет просто ужасно – Клитридж, как всегда, будет вести себя как полный идиот, – он всегда так выступает, когда дело касается чего-то реального; Лелли наверняка придется все за ним потом подчищать. Олифант будет вести себя как обычно, тихо и спокойно, насколько позволят обстоятельства, – он ведь хороший и добрый малый. Джозайя, как всегда, будет пребывать в роли напыщенного слепого осла, каковым и является. Мне ненавистна даже сама мысль об этой церемонии. С Джозайей мы, несомненно, поссоримся и разругаемся, потому что я ничего не могу с этой ненавистью поделать. Чем больше он пресмыкается перед памятью этого проклятого епископа, тем больше я злюсь и тем больше мне хочется во всю глотку заорать прямо с кафедры, каким мерзавцем был этот старый греховодник. Это ведь были не просто обычные, приличные грешки вроде страсти или обжорства, – нет, это были холодная самодовольная жадность и стремление доминировать над другими.
Шарлотта, не думая, протянула руку и коснулась его ладони.
– Но вы ведь, я надеюсь, не будете орать.
Шоу неохотно улыбнулся и остался сидеть неподвижно, чтобы и она не убирала руку.
– Я попытаюсь вести себя как образцовый плакальщик и друг покойного, даже если слова будут застревать в глотке. Мы с Джозайей ссорились неоднократно, но он меня жутко искушает, прямо-таки провоцирует. Он живет в совершенно фальшивом мире, и я просто не в силах выносить его плаксивое нытье! Уж я-то себя знаю, Шарлотта! Не выношу ложь и лживость; она отнимает у нас все доброе, закрывая его от нас многими слоями разных мерзких отговорок и экивоков, пока то, что в действительности было прекрасно, смело и чисто, не превращается в нечто уродливое, искаженное и девальвированное, полностью обесцененное. – Голос его дрожал от переполнявших его чувств. – Ненавижу ханжей и лицемеров! А церковь, как мне кажется, стала их рассадником, плодит их, как абсцесс плодит гной, и при этом пожирает настоящих, добрых и хороших людей вроде Мэтью Олифанта.
Шарлотта немного удивилась: этот его эмоциональный взрыв позволил воочию разглядеть всю его жизненную силу; и еще она чувствовала это собственной рукой, все еще касающейся его ладони. Она чуть отодвинулась, не желая нарушить очарование этого момента.
– Значит, увидимся завтра на похоронах. Мы оба будем там прилично себя вести, как бы тяжело нам ни пришлось. Я не стану ругаться и ссориться с миссис Клитридж, хотя мне очень этого хотелось бы, а вы не станете говорить Джозайе, что на самом деле думаете о епископе. Мы будем просто оплакивать усопшего, хорошего человека и друга, который скончался так скоропостижно.
Она встала и, не оглядываясь на него, очень грациозно пошла к выходу из гостиной, выпрямив спину, и вышла в холл.
Мёрдо потребовалось два дня сплошного беспокойства и сомнений, мгновенных надежд и черного отчаяния, прежде чем он нашел предлог посетить Флору Латтеруорт. И еще ему понадобилось по крайней мере полчаса, чтобы вымыться, побриться и переодеться в безупречно чистый мундир, отутюженный до полного совершенства и с начищенными пуговицами. Он ненавидел эти пуговицы, поскольку они при первом же взгляде выдавали его ранг, но поскольку ему от них было не избавиться, следовало хотя бы их как следует начистить.
Мёрдо намеревался явиться к ней и совершенно откровенно выразить ей свое восхищение, но потом ужасно покраснел, стал совершенно алым, когда представил, как Флора будет смеяться над ним за подобную нелепость и наглость. А кроме того, она непременно разозлится, что какой-то полицейский – низший чин даже в этой несчастной профессии – осмелился даже думать о чем-то подобном, не говоря уж о том, чтобы выразить это словами. И констебль полночи лежал без сна, сгорая от стыда.
Нет, единственный способ – найти хоть какой-то предлог, лучше профессиональный, а уж потом, в беседе с нею, проговориться, что она вызывает в нем чувство глубочайшего восхищения, а затем удалиться со всей возможной вежливостью и тактом.
И вот в двадцать пять минут десятого утра Мёрдо постучался в дверь дома Латтеруортов. Когда служанка открыла ему, он осведомился, нельзя ли ему увидеться с мисс Флорой Латтеруорт с целью выяснить, не может ли она помочь в официальном расследовании.
Констебль споткнулся о порог при входе и был уверен, что горничная подсмеивается над его неуклюжестью. Он очень разозлился и, покраснев, уже пожалел, что вообще сюда явился. Наверняка это его предприятие обречено на неудачу. Он выставил себя дураком, и она будет его презирать.
– Не угодно ли подождать в утренней гостиной? Я узнаю, примет ли вас мисс Латтеруорт, – сказала ему горничная, расправляя на бедрах свой накрахмаленный передник. Ей он показался очень милым – красивые ясные глаза, очень чистенький, не то что некоторые, хорошо ей знакомые, но она вовсе не собиралась позволять ему что-то такое о себе возомнить. Но вот когда он закончит беседовать с мисс Флорой, она предпримет все меры, чтобы оказаться на месте, чтобы проводить его на выход. И не станет возражать, если он пригласит ее прогуляться с ним в парке в ее выходной день.
– Спасибо. – Мёрдо остановился на ковре посредине комнаты, вертя в руках свой шлем и явно дожидаясь, когда она уйдет.
На мгновение ему захотелось просто уйти, но его ноги словно налились свинцом и приросли к полу, в то время как мысли унеслись куда-то вдаль по дороге обратно в участок, а тело по-прежнему пребывало на одном месте; ему вдруг стало жарко, потом холодно в этой изящной и элегантной гостиной Латтеруортов.
Тут в гостиную вошла Флора – румяная и потрясающе красивая, с сияющими глазами. Одета она была во что-то ярко-розовое, в самое прекрасное и идущее ей платье, какое он когда-либо видел. Сердце у него так жутко забилось, что он был уверен, что это сотрясение его тела отлично ей заметно. Во рту у него совершенно пересохло.