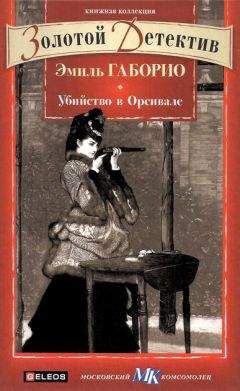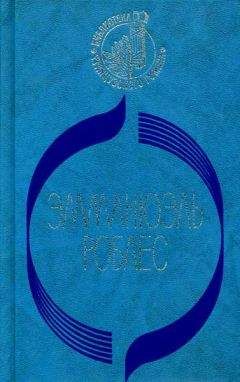— Можете проверить, — добавил он. — Силки до сих пор там, и может даже, какая-нибудь дичь в них попалась.
— А у вас есть свидетели, которые подтвердят, что вы вернулись в час? — поинтересовался мэр, вспомнив про часы, остановившиеся на двадцати минутах четвертого.
— Ей-богу, не знаю, — беззаботно ответствовал браконьер. — Может, когда я ложился, проснулся сын. — Заметив, что судебный следователь задумался, Подшофе добавил: — Похоже, мне придется посидеть в тюрьме, пока вы не найдете убийц. Я бы не против, ежели бы дело было зимой: в тюрьме хорошо, тепло. Но сейчас сезон охоты, и мне это совсем ни к чему. Ну да ладно. Зато Филиппу урок: пусть знает, что получается, когда лезешь услужить буржуа.
— Прекратите! — оборвал его г-н Куртуа. — С Гепеном вы знакомы?
Это имя остудило насмешливость Подшофе. В его маленьких мутных глазках мелькнула какая-то тревога.
— Нам случалось иной раз перекинуться в картишки за рюмочкой, — с явным замешательством ответил он.
Беспокойство старика удивило допрашивающих. Папаша Планта не сумел его скрыть. Однако старый браконьер был слишком хитер, чтобы не заметить произведенного впечатления.
— Ну, коли так, ладно! — воскликнул он. — Все скажу. В конце концов, каждый за себя, верно? Даже если Гепен и прикончил их, от моего признания хуже ему не будет, да и мне тоже. Мы знакомы, потому как он приносил мне на продажу землянику и виноград из графской оранжереи. Думаю, он их крал. Конечно, это куда как непохвально, но вырученные деньги мы делили пополам.
Подшофе не ошибся, предположив, что его посадят: судебный следователь распорядился содержать старого браконьера под арестом.
Следующим предстал Филипп. На бедного парня было жалко смотреть: он плакал, как ребенок, и твердил:
— Обвинить меня в таком преступлении!
Не скрывая, Филипп рассказал все, как было, и очень долго просил прощения за то, что они посмели пересечь канаву и проникнуть в парк. На вопрос, когда возвратился домой его отец, Филипп ответил, что не знает, так как лег около девяти и спал без просыпу до утра. С Гепеном знаком: тот неоднократно заходил к ним. У отца были какие-то дела с графским садовником, но какие — ему неизвестно. Сам он разговаривал с Гепеном раза три-четыре, не больше.
Судебный следователь распорядился освободить Филиппа, но не потому, что уверовал в его невиновность: если в преступлении участвовало несколько человек, одного из них лучше держать на свободе и, следя за ним, выйти на остальных.
Тела графа между тем до сих пор не нашли, хотя парк прочесали самым тщательным образом — обыскали все заросли, не пропустили ни единого кустика.
— Его бросили в воду, — высказал предположение мэр.
Г-н Домини был того же мнения. Собрали рыбаков и велели обшарить дно Сены, начиная от того места, где обнаружили убитую графиню.
Было уже около трех. Папаша Планта заметил, что никто, вероятно, с самого утра не ел. И если все согласны продолжать расследование до ночи, не разумно ли будет наскоро перекусить?
Напоминание о столь низменных потребностях, присущих жалкому человеческому роду, крайне оскорбило чувствительную натуру мэра и более того — унизило его как человека и должностное лицо. Но поскольку все согласились с папашей Планта, г-н Куртуа решил последовать общему примеру. Однако, бог весть почему, у него совсем не было аппетита.
И вот судебный следователь, мировой судья, доктор Жандрон и мэр уселись за стол, на котором еще не высохло пролитое убийцами вино, и принялись за наспех приготовленную трапезу.
Лестница наверх охранялась, но в вестибюль вход был свободный. Оттуда доносились шаги, какая-то возня, топот; время от времени весь этот шум перекрывался властным голосом жандарма, пытающегося удержать толпу в рамках приличий.
Иногда в приоткрытых дверях столовой появлялась боязливая физиономия: кто-нибудь из зевак похрабрей решался посмотреть, как едят «судейские», а заодно подслушать хоть несколько слов, чтобы, пересказав их остальным, похваляться этим.
Но «судейские», если воспользоваться терминологией орсивальцев, вели самые незначительные разговоры, не забывая, что двери открыты, а вокруг стола снует лакей.
Потрясенные чудовищностью преступления, встревоженные его загадочностью, они замкнулись и таили свои впечатления в себе. Каждый мысленно прикидывал, насколько справедливыми могут оказаться его подозрения.
Г-н Домини ел и одновременно приводил в порядок записи: нумеровал страницы, отмечал крестиками наиболее доказательные ответы, чтобы положить их в основу донесения.
Пожалуй, из всех четверых участников этой мрачной трапезы он был самый спокойный. На его взгляд, преступление было не из тех, что доводят следователя до бессонницы. Повод ему ясен, а это уже немало, у него в руках два преступника или, на худой конец, соучастника преступления — Подшофе и Гепен.
Папаша Планта и доктор Жандрон сидели рядом и беседовали о болезни, ставшей причиной смерти Соврези.
Г-н Куртуа прислушивался к шуму на улице.
Весть о двойном убийстве разлетелась по деревне, и толпа росла с каждой минутой. Она заполнила двор и вела себя все более дерзко. Жандармы не могли справиться с нею.
Для мэра Орсиваля настал момент показать себя.
— Надо образумить этих людей и заставить разойтись, — заявил он, вытер губы, бросил свернутую салфетку на стол и вышел.
Да, настало время заняться этим. Уже не было слышно даже голоса бригадира. Несколько наиболее отчаянных зевак пробовали отворить двери, ведущие в сад.
Появление мэра не смутило толпу, однако удвоило энергию жандармов — вестибюль был очищен. Но какой ропот вызвали эти действия властей!
И какой появился великолепный повод произнести речь! Г-н Куртуа не упустил его. Он был уверен, что красноречием, словно ведром ледяной воды, охладит возбуждение, столь несвойственное его подопечным.
Г-н Куртуа стоял на крыльце, заложив левую руку за вырез жилета и размахивая правой, — в горделивой, непринужденной и скульптурной позе, достойной великого оратора. Эту позу он принимал у себя в муниципальном совете всякий раз, когда, встретив неожиданное сопротивление, укрощал упорствующих и добивался торжества своей воли. Именно так в «Истории Реставрации» изображен Манюэль[4] в момент, когда он произносит знаменитое: «Арестуйте его».
До столовой его речь долетала в отрывках. В зависимости от того, вправо он поворачивался или влево, голос его либо звучал ясно и отчетливо, либо уносился в пространство. Начал г-н Куртуа так:
— Господа! Дорогие мои подопечные!
Преступление, небывалое в анналах Орсиваля, обагрило кровью нашу мирную, честную коммуну. Я разделяю вашу скорбь. Я понимаю ваше лихорадочное возбуждение, законное негодование. Так же, как вы. друзья мои, и даже больше я любил и почитал благородного графа де Тремореля и его добродетельную супругу. Они были добрыми гениями нашего селения. Вместе с вами я оплакиваю их…
— Уверяю вас, — говорил в это время доктор Жандрон папаше Планта, — описанные вами симптомы не такая уж редкость при плеврите. Часто, решив — болезнь побеждена, прекращают лечение и вскоре убеждаются, что ошиблись. Острое воспаление переходит в хроническое и усугубляется пневмонией и чахоткой.
— …Но ничем нельзя оправдать, — продолжал мэр, — неуместные и шумные проявления любопытства, которые мешают отправлению правосудия и являются нарушением закона. Что значит это необъяснимое сборище, эти многоголосые выкрики, гул, пересуды, эти преждевременные выводы?…
— Несколько раз, — говорил папаша Планта, — собирали консилиум, но, к сожалению, это ничего не дало. Жалобы Соврези были крайне странными и необычными. То, что он говорил о своих ощущениях, было до того невероятно и. простите меня, абсурдно, что это сбивало с толку самых опытных врачей.
— А Р. из Парижа смотрел его?
— Смотрел. Он приезжал каждый день и нередко оставался ночевать в замке. Я не раз видел, как он, озабоченный, шел по главной улице к нашему аптекарю, чтобы проследить за приготовлением прописанных лекарств.
— …Сумейте же сдержать, — выкрикивал г-н Куртуа, — свой праведный гнев, успокойтесь и сохраняйте достоинство!
— Вне сомнения, ваш аптекарь, — заметил доктор Жандрон, — весьма толков, но у вас в Орсивале живет человек, который даст ему его очков вперед. Славный малый, торгует лекарственными травами и умеет сколачивать деньгу. Его фамилия Робло.
— Костоправ Робло?
— Он самый. Подозреваю, что он тайком и лечит, и делает лекарства. Весьма неглуп. Впрочем, учил-то его я. Больше пяти лет он был у меня помощником в лаборатории, да и сейчас, если мне предстоит тонкая работа… — Тут доктор замолчал, пораженный тем, как переменилось доселе невозмутимое лицо собеседника. — Что с вами, дорогой друг? Вам худо?