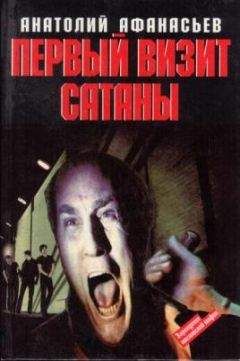— Почему я злой? — переспросил он нетерпеливо. — Объясни.
— Сам знаешь.
Она забрала у него пустую тарелку и поставила на подоконник. Опять застыла в позе вечного странствия. Тьма за окном сгустилась до критической точки, после которой на небесах обязательно возникает светлый отблеск. Медлить дальше было стыдно. Алеша положил ей руку на плечо. Стремительно она обернулась, неодолимо качнулись ее тяжелые груди. Алешино сознание раздвоилось. С трепетом следил он за усилиями гибкого мальчика, дерзнувшего оседлать матерую, с завидными статями кобылицу. Все это было похоже на чудесную первобытную грезу. Кобылица помогла ему, как могла, грациозными, мерными телодвижениями и ржанием, он и сам быстро вошел во вкус. Старухе за стенкой, должно быть, привиделся Страшный Суд с чудовищным скрипом весельных уключин. Видно, кто-то очень свирепый за ней приехал, чтобы везти на дознание. Эту кровать не чинили, не смазывали, конечно, со времен покорения Крыма…
Утром он проснулся в счастливом неведении: где сон, где явь. На кровати он был один. В окошке переливалось солнце.
Он длинно потянулся. Отчаянная пичуга, наверное, дрозд, надрывалась за окном в восторженном клекоте. В доме было тихо. От простыней пахло женским пряным телом. Пока он лежал, на ветке яблони в окне набухли почки. Часы показывали половину одиннадцатого. В полуоткрытую дверь бесшумно, как тень, скользнула глухая старуха, покрутилась по комнате, дико взглянула на Алешу из-под растрепанных седых косм, ненатурально взвизгнула и исчезла. Не привидение ли это было?..
Именно в этот час в Москве, в своей обшарпанной квартирке, на кухонном клеенчатом столе старик «Пакля», самодовольно ухмыляясь, мусоля химический карандаш, заканчивал записку следующего содержания: «Дорогой рогатый друг! Пока ты в поте лица зарабатываешь деньги на семью, твоя женушка кувыркается в Ростове с любовничком. Хочешь — поедь и убедись. Советую поспешить. Сострадатель».
Зазвонил телефон. Это был хозяин.
— Ты уверен, что щенок в Ростове?
— Я денежки всегда честно зарабатываю, — обиделся «Пакля».
— Ну-ну! Письмецо состряпал? Прочитай.
«Пакля», похрюкивая от тайного наслаждения, огласил записочку. Елизар Суренович остался доволен.
— Умеешь, сволочь. Доставь немедленно.
— Слушаюсь, ваше благородие!
В роскошных апартаментах на Садовом кольце Елизар Суренович приступил к завтраку. Только-только он закончил священнодействие над салатом, сдобрив в правильной пропорции нашинкованные овощи постным маслицем и дав им две минуты настояться, прежде чем окропить блюдо голубоватой солью и перемешать. Теперь надо было подождать, пока помидоры и петрушка, оскорбленные луковым присутствием, пустят и сольют свои сладкие любовные соки. Рядом с салатом на фаянсовой тарелке горбился почти одухотворенный бутерброд со свежим крестьянским маслом и семужкой домашнего посола, а сбоку на плите раздраженно скворчала на чугунной сковородке благородная яишенка. Но прежде всего, прежде всей трапезы Елизар Суренович благоговейно отпил из хрустального бокала глоток свежайшего ледяного апельсинового сока, куда по рецепту тибетских монахов добавлял щепотку цветочной пыльцы и чайную ложку густого гречишного меда.
Вкушая завтрак, он с удовольствием размышлял об Алеше, случайной рыбке, залетевшей в его сети, об этом желчном, самовлюбленном отроке, позарившемся на дармовщинку, прирожденном советском халявщике. Пожалуй, закусить им, после умелого приготовления, будет не менее приятно, чем проглотить вот этот ломтик сочной красной рыбины…
После кофе, задымив душистым «Кентом», он, как обычно, заглянул в свой настольный еженедельник и увидел, что, кроме прочего, на сегодняшнем дне там значилось: Маняша П. Елизар Суренович огорчился, что забыл про нее. Маняша была дочерью его подельщика, заведующего промтоварным складом на Яузе Кеши Бардина. У этого сурового подпольного капиталиста, как это часто бывает, уродилась совершенно на него не похожая дочь, эфемерное создание с мозгом пингвина и с претензиями небесной голубки. Месяца два назад на домашней ассамблее у Бардина она метнулась перед глазами Елизара Суреновича светлым пятнышком, длинноногой наядой, и он (удивленный) осторожно поинтересовался у папаши, какой же это годик пошел Маняше. Оказалось, ей уже пятнадцать. Учится в спецшколе с гуманитарным уклоном и кропает стишки. Стишки! За эту подробность Елизар Суренович сразу плотно ухватился. Улучив минутку, в коридоре заговорщицки шепнул стройной отроковице на ушко:
— Наша с тобой тайна! Папане ни слова! Жду во вторник со стихами.
Отроковица желанно покраснела.
— Что-нибудь вы разве понимаете в поэзии, Елизар Суренович?
— Да ты что, пигалица! Пощади стариковское самолюбие. Евтушенко с компанией — все мои ученики. Причем бестолковые. А если серьезно: бог поэзии и есть мой главный бог. Ну иди, иди, а то папаня засечет. Я тебе напомню утречком.
Рисковал Благовестов не слишком. Даже если Кеша прознает про затеваемую шалость, пасть открыть на него не посмеет. Вес не тот. А посмеет, Елизар тут же ему ее и заткнет напоминанием о некоторых секретных услугах. Однако, как и следовало ожидать, Маняша оказалась скрытной девочкой: хоть что-то хорошее унаследовала от преступного отца. Кстати, на эту детскую страстишку к рифмованным строчкам Елизар Суренович в своей жизни подлавливал, подманивал не одну неоперившуюся душонку.
— Приходи, — сказал он в трубку, с приятностью ощупывая под халатом собственное волосатое бедро. — Уже есть кое с кем договоренность. Стихов захвати как можно больше. Возможно, подскочит товарищ из журнала. Ты поняла? Особо подчеркиваю: родителям ни слова. Наша тайна! Потом, когда книжицу выпустим, будет им сюрприз.
Через сорок минут Нанята позвонила в дверь. Он отвел ее в гостиную, ободрил коробкой шоколадных конфет и наконец-то, не торопясь, как следует девочку разглядел. Да, бутончик в логове капиталиста вызрел прелестный. Обернута, правда, в хипповые бесформенные тряпки, но даже под уродливой хламидой видно, что тельце у девочки крепенькое, тугое, соразмерное, с продолжительными, как он любил, линиями бедер, икр, а уж про личико, волосики, про деланно-наивную гримасу и говорить не приходится: восторг! Самый срок напялить ее на сук, чтобы она лишь пискнуть успела, как устрица.
— Поэзия, дитя мое, — начал он, сурово кутаясь в халат, — это не просто строчки на бумаге, это — состояние души. Эту истину я, можно сказать, выстрадал за всю свою долгую жизнь. Годы мои подходят к закату, и — увы! — все в прошлом оказалось тленом и обманом, кроме поэзии. Да, да, дитя мое! Все, к чему так неистово стремятся люди — богатство, слава, женщины, — все это было у меня в изобилии, и все прискучило, омерзело, кроме тех волшебных созвучий, которые мы называем стихами. Поэзия выше жизни и выше всего остального. Она выше и смерти. Почему поэты умирают так легко, ты никогда не задумывалась? Почему так светло прощался с миром великий Пушкин, изнывая от раны? Почему застенчиво, как уснул, умер Есенин? Поэты умирают легко, потому что им внятен тайный смысл бытия, и покидают они юдоль скорби, с улыбкой прислушиваясь к великой музыке сфер. Они устремляются на свидание с обретенным божеством, а не в могилу, как другие. Манечка, скажу без обиняков: я счастлив был встретить в доме лучшего своего друга родственную душу. Но был и удивлен. Отец твой, между нами, поэтами, говоря, грубое, необразованное существо, с дурным запахом изо рта… Не хмурься, дитя мое, долг поэтов говорить и выслушивать правду.
Безошибочно подвел он девочку к скромному предательству, и она его совершила, чуток порозовев. Да и кто не предавал родителей по нашим темным временам.
— Папочка иногда, да, бывает нетактичен, резок, — прошептала Маняша, не умея укрыться от грозного, испытующего взгляда Елизара Суреновича. — Но сердце у него доброе!
Елизар Суренович сумрачно усмехнулся:
— Бедное дитя! К чему лукавить, мы оба слишком хорошо знаем твоего папочку. Доброе сердце! Если у него доброе, то какое же тогда у волка? Согласись, твой отец — просто дикое, необузданное чудовище. И мамочку поколачивает, разве нет?
Потупясь, еле слышно Маняша шепнула: «Да!» Сразу Елизар Суренович заскучал. Эта девочка была перед ним теперь, как взрыхленная полоска земли, готовая к принятию семени. Но он-то был не сеятель, он был эстет. Он верил в соразмерность всего сущего и с гневом отрицал чудовищный закон энтропии.
— Что ж, почитай, дитя, почитай из заветной тетрадки, — протянул он лениво.
Девочка сбегала в коридор за сумкой и действительно раскрыла на коленях толстую общую тетрадь в коричневом переплете. От вида бездарной коленкоровой обложки Елизар Суренович чуть не застонал и поспешил осушить рюмку коньяку. Маняше выпить пока не предлагал. Это было не к спеху, он еще не решил, далеко ли сегодня зайдет.