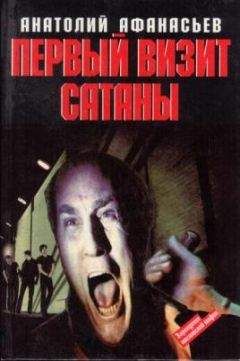Стишата, разумеется, напоминали птичье щебетание. Уйма безвкусицы, подражательности и каких-то заунывных намеков. Тех, кто марает такие стихи и носится с ними по знакомым, конечно, следовало сечь. Порка вообще наилучшее средство от нелепых увлечений. Если человека регулярно с детства пороть, хотя бы в фигуральном смысле, он делается задумчив и необременителен для окружающих. Все-таки трогательное шевеление детских, чуть подведенных губ, издающих комариное зудение, постепенно его возбудило. Да и коньячок взбаламутил нутро. Девочка так разошлась, что темные волосики вспучились надо лбом: пора было прекращать этот цирк. Он поймал ее руку, стиснул, точно в экстазе, возопил:
— Перечитай, дорогая! Последнюю строфу. Умоляю!
Вздрогнув, дева послушно отбарабанила: «Снимала трубку, как сосуд, и было страшно расплескать, дрожала за истомой суть, коленки бились у виска».
— Полагаю, это гениально, — спокойно определил Елизар Суренович, в мнимом забытьи продолжая поглаживать ее ручонку. — Но оценить способен не всякий. Тут нужно особое устройство слуха. Дитя, я горд, что знаком с тобой. Дайка я тебя по-отечески расцелую.
Перетянув к себе на колени, он долго, вдумчиво ее лапал, наслаждаясь ее растерянностью. Бедняжка не понимала, что он с ней делает и зачем. Но под этим непониманием, он подушечками пальцев безошибочно чувствовал, пробивалась легкая ответная вибрация. Если даже она девочка, то недолго пробудет в этом пикантном положении. Кожа ее пахла сушеной дыней. Глубокомысленно извинившись, он посадил Маняшу на прежнее место.
— Когда сталкиваюсь с истинным проявлением поэзии, что-то на меня такое находит, словно ток, словно любовь. Я боготворю тебя за твой дар. Твой талант послан небесами. Тебя, возможно, шокирует, что признается в обожании несколько староватый для тебя человек. Но в поэзии все ровесники, не правда ли, друг мой? Вот твой бокал. Вот мой. Вот лимончик. За тебя! За твое призвание! За наше счастливое сотрудничество! За твоего будущего возлюбленного! Пей до дна!
Кажется, он несколько переоценил ее искушенность: от коньяка она поплыла с двух глотков. Тетрадочка упала на пол, выражение лица было лунатическое. Наконец к ней вернулся дар речи.
— Елизар Суренович, как-то странно вы со мной разговариваете. Я не все понимаю.
— И я не все понимаю в твоих стихах. Разве это важно?
— А что важно?
— Важно, что у нас есть тайна… Ну-ка выпей еще.
— Не могу!
— Пересилься! Тебе придется научиться пить. Тебе многому придется научиться. Чтобы преодолеть пошлость жизни, ее надо познать. Скажи мне, как своему преданному обожателю, у тебя было что-нибудь с мальчиками? Или ты невинна?
— Елизар Суренович!
— Спрашиваю не из праздного любопытства, поверь. Ты будешь знаменита, ты будешь богата, тебе будут поклоняться, но, отпуская тебя в страшный, огромный мир, я несу за тебя ответственность. Я несу за тебя ответственность перед твоей прекрасной матерью и перед отцом, какой бы он ни был. Пусть он чудовище, но он твой отец. Матушка у тебя охулки на руку не положит, но она твоя мать! Я должен заменить их обоих и еще стать тебе наставником и сексуальным партнером. Без этого никак не обойтись. Такова наша жизнь, дитя! Пей!
Крутым напором воли он ее подстегнул, и машинально она осушила рюмку. Потом мяукнула с вызовом:
— Я все поняла про вас. Я пойду домой!
Он ее в этот раз легко бы отпустил, кабы не заприметил в последний миг в ее очах, в этих наивно-капризных лазоревых омутках вполне взрослого презрения. Может, и не презрения, может, испуга. А это был перебор. Не для того он угробил на нее все утро, чтобы облизнуться на ее плюшевый задик. «Придется изнасиловать!» — подумал разгоряченно. Кеша, понятно, затребует немалого откупного, да черт бы с ним…
— Прости, Маняша, если напугал. Это все стихи, стихи, будь они неладны. Внимая чудным звукам, я делаюсь как бы невменяемым, воспаряю… Прости! Значит, ты невинна?
— Какое это имеет значение?
— Огромное, дитя мое, огромное! Прими еще глоточек, прошу тебя! Ты побледнела! О, я вел себя, как дикарь.
Потихоньку он попытался снова переместить ее к себе на колени, но она как бы одеревенела, налилась избыточным весом. Он чуть не расхохотался. Бог мой, какое упоительное ощущение. Ну да, он загипнотизировал ее. Сейчас она в его полной власти. Ее огрузневшее тело больше не подчиняется ей. Осторожно поднес он к ее рту рюмку — и она судорожно глотнула. Следом вложил в алую пещерку лимонную дольку.
— Я папе пожалуюсь, если вы что-нибудь со мной сделаете!
— Что я могу с тобой сделать, глупышка! За кого ты меня принимаешь? Это ты околдовала меня. А мне пожаловаться некому.
— Мне страшно, Елизар Суренович!
— Конечно, страшно, если артачиться. Но на самом деле это приятно. Ну-ка, подвинься к дяде Елизару поближе, скинь глупую кофтенку. Ну-ка, давай стянем и трусики, они нам только мешают… Любовь — самая высокая из наук, дитя мое, ты еще будешь меня благодарить… Ну-ка, раздвинь поудобнее ножки, ручки положи вот сюда… Расслабься же, расслабься, не плачь, тебе не будет больно…
Через час он купал ее в ванне, наполненной розовой душистой пеной. Он каждый ее пальчик, каждое пятнышко на коже холил и скреб, каждую жилочку вытягивал и нежил искусными пальцами. Словно в поэтическом трансе, девочка пускала ртом голубоватые пузыри. Елизару Суреновичу было смешно, скучновато и тревожно. Он был встревожен тем, что так мало радости получил от пикантного приключения.
— Что я натворил, негодяй! — сокрушался он. — Как я мог. Простишь ли ты меня, дитя? Увы, это был лунный удар. Амок! Твоя красота пробудила во мне древний инстинкт обладания, зверское начало. Ты поэтесса, ты поймешь и простишь, не правда ли? Я дам тебе много денежек. Купишь чего душа пожелает. Я твой вечный должник и слуга. Хочешь, возьми заодно мою жизнь?
Она была в подозрительной, молчаливой прострации. Он подумал: не вызвать ли на всякий случай знакомого врача. Сполоснул ее под душем, завернул в махровую простынь и отнес на кровать.
— Будем одеваться, малышка? Или немного подремлешь? Или выпьешь глоточек вина?
Она по-прежнему безмолвствовала, вперив в потолок бессмысленный, как у совы, взор. И тут его терпение лопнуло. Быстренько натянул он на нее трусики и облачил в отвратительную хипповую хламиду. В его руках она была послушна, но двигалась механически. Он ее поставил на ноги и подвел к двери.
— Хватит кривляться, сучонка! — напутствовал предостерегающе. — Не первый раз попробовала мужского мясца, не первый. Или с шелупонью слаще? Смотри, попробуй только пикнуть дома. Всю вашу поганую семейку раздавлю, как клопов. На, держи свой гонорар, поэтесса!
Сунул ей в руку тугую пачку полусотенных. В этот миг Маняшино личико приняло наконец осмысленное выражение, и она сделала нечто такое, отчего Елизар Суренович ее немного зауважал. Отступя к двери, с размаху швырнула деньга ему в рожу. Веселым роем вспорхнули в коридоре зелененькие. Елизар Суренович чихнул и влепил девочке негромкую затрещину. На том они расстались. Все-таки он вышел за ней к лифту и на дорожку еще раз напутствовал:
— Повторяю: дома ни звука! Пойми, тебя жалею, дурочка. А понадоблюсь — звони.
Ровно через двое суток после Алеши сошел на родной ростовский перрон Федор Кузьмич Полищук. Глаза у него слезились от бессонной ночи. Прямо с вокзала он позвонил сестре на работу. Катерина Кузминична его звонку ничуть не удивилась, и они условились встретиться через полчаса в кафе неподалеку от Театральной площади. Там рядом была прачечная, где Катерина Кузминична работала тридцать лет подряд.
Они не виделись лет пять, но оба мало изменились. Они никак не походили на брата и сестру. Катерина Кузминична была высокая, сухопарая, сутулая женщина с переваливающейся, утиной походкой, неуклюжая с виду и с неприветливым лицом, на которое шесть с гаком десятилетий наложили решетку морщин наподобие тюремной. Донской казачке, ей несладко пришлось вековать при советской власти. Но она другой доли не знала и потому ни на что, никогда, никому не жаловалась. Жалела лишь о том, что мужа любимого притушили на первом году войны, через месяц после призыва, мало успели они помиловаться и, главное, не сумели оборудовать ребеночка, оплошали. Сухоликий, круглоголовый, с литым, опасно подвижным телом, приземистый, с прозрачным, как у рыси, выражением глаз, Федор Кузьмич выглядел по сравнению с сестрой вполне благополучным человеком. Он таким, пожалуй, и был все последние годы.
При внешней разномастности брат и сестра Полищуки душевно были настолько схожи, что им никогда не требовалось обмениваться пустыми предварительными фразами, чтобы потом обсудить что-то серьезное. Время было не властно над их кровной приязнью. К приходу брата Катерина Кузминична успела заказать кофе и яичницу с ветчиной. Она сидела посреди полупустого зала, нахохлясь, глядя в одну точку, и непонятным образом производила впечатление старой крестьянки, притомившейся, присевшей отдохнуть на пороге родной хаты. Брат сбоку неслышно подошел, наклонился, обнял, истово потерся об ее щеку небритой щекой, мягко, по-кошачьи опустился на стул напротив, сунул в рот сигарету, с улыбкой подмигнул, спросил небрежно: