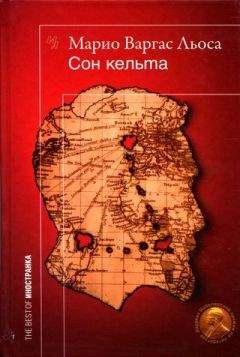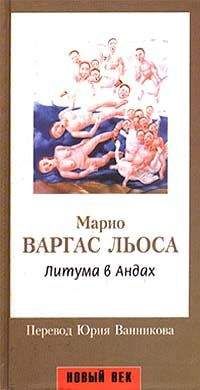– Он, говорят, дивно пел? – поощрил рассказчицу лейтенант. – Болеро в особенности, да?
– И болеро, и вальсы, – кивнула та и вздохнула так глубоко, что Литума крякнул. – И тондеро, и эту «песенку кумовьев», знаете, где двое перекликаются. Все у него очень славно выходило.
– Итак, машина въехала в поселок, вы ее увидели, – напомнил лейтенант. – А эта парочка? Бросилась бежать? Попыталась спрятаться?
– Девушка хотела, чтобы Паломино укрылся где-нибудь. Стала ему говорить: «Беги, милый, укройся, спрячься, беги, нельзя тебе здесь оставаться, не хочу, чтобы…» А он ей: «Нет, милая, ты теперь моя, две ночи мы были вместе, ты жена мне теперь, и никто ничего не посмеет нам сделать, придется им согласиться. Никуда я не пойду. Я дождусь их и все им объясню». А та перепугалась и все уговаривала его: «Беги, беги, они с тобой расправятся, беги, а я их отвлеку, не хочу, чтобы тебя убили».
И страх ее передался донье Лупе.
«Кто они? – спросила она, показывая на запыленную машину, откуда вылезло двое мужчин, – силуэты их четко выделялись на багровом закатном небе, точно вырезанные из черной бумаги фигурки без лиц. – Кто они? Зачем приехали? Матерь божья, что же будет?»
– Ну и кто же это был? – спросил лейтенант, окутываясь табачным дымом.
– Кто был? – прошипела сквозь стиснутые зубы женщина с яростью, на миг одолевшей страх. – Как это «кто был»? Кому ж и быть, как не вашим?
– Наши? Гражданская гвардия? Или военная полиция? Солдаты с Таларской авиабазы? Правильно я вас понял?
– Ваши. Люди в военной форме, – снова сникла донья Лупе. – Разве вы все – не одно и то же?
– Да не совсем, – улыбнулся лейтенант. – Впрочем, это несущественно.
В этот миг, продолжая жадно вслушиваться в ее рассказ, Литума вдруг увидел их. Прячась от солнца под навесом из жердей, прижавшись друг к другу, сцепив пальцы, сидели они, и беда уже была готова обрушиться на них. Склонив черноволосую, коротко остриженную голову к ней на плечо, чуть щекоча ей ухо губами, он пел: «Наши души в этом мире воедино свел господь…» – а у нее от нежности выступили на глазах слезы, и, чтобы лучше слышать, она кокетливо приподнимала плечо и чуть-чуть хмурилась, сдвигая брови над детскими влюбленными глазами. Любовь смягчила ее черты, смыла высокомерное выражение. Литума почувствовал, как охватывает его бесконечная печаль, когда в реве мотора, в облаке желтоватой пыли неотвратимо возник впереди автомобиль с людьми в военной форме. Не задерживаясь, проскочит он через поселок на исходе дня и еще через несколько жестоких минут затормозит у этой лачуги без двери, где сейчас сидели они с лейтенантом. «Что ж, по крайней мере, хоть эти двое суток они были счастливы», – подумалось ему.
– Как? Только двое? – спросил лейтенант, и Литума удивился его удивлению. Из какого-то неясного суеверного чувства он старался не встречаться с ним глазами.
– Только двое, – словно сама сомневаясь, испуганно подтвердила женщина. Она заморгала, припоминая, силясь понять, не изменяет ли ей память. – Да нет. Только двое их было. Они вылезли, и в машине никого больше не осталось. Я запомнила – их было двое, я уверена. А что?
– Да ничего. – Лейтенант раздавил в пепельнице сигарету. – Я думал, что за ним отправили наряд. Что ж, двое так двое. Это неважно. Продолжайте.
Снова задрожал в знойном полдневном воздухе ослиный рев – ликующий, низкий, переливчатый рев зверя, извергнувшего семя, и тотчас возившиеся в пыли ребятишки – кто бегом, кто ползком – кинулись, хохоча, искать ослицу, поглядеть, как покрывает ее это ревущее чудовище.
«Ты жива? – спросил один из приехавших – тот, кто казался старше, тот, у кого в руках не было револьвера. – Что он с тобой сделал? Как ты себя чувствуешь?»
В считанные минуты стемнело: за то время, которое потребовалось приехавшим, чтобы дойти от джипа до лачуги доньи Лупе, сумерки стали ночью.
«Если тронешь его, я покончу с собой, – сказала девушка: в спокойном ее голосе звучал вызов, ноги твердо упирались в землю, кулаки были сжаты. Однако подбородок у нее дрожал. – Если тронешь его, я покончу с собой. А сначала всем все расскажу о тебе. Все умрут от стыда и омерзения».
Донья Лупе тряслась как овечий хвост.
«Что происходит, господа, кто вы, чем могу служить, это мой скромный дом, я бедная женщина, я ничего плохого не сделала».
Тень с револьвером – казалось, что при каждом взгляде на Паломино глаза у нее полыхают огнем – подошла к ней вплотную и уткнула дуло между иссохших грудей.
«Нас здесь нет, мы тебе примерещились, – сказал он. Язык у него чуть заплетался, как у пьяного, но пьян он был от ярости и ненависти. – Сболтнешь кому-нибудь – застрелю как бешеную собаку своими руками. Поняла?»
Хозяйка упала на колени. «Я ничего не знаю, ничего не понимаю. В чем я провинилась, сеньор? Что за преступление – пустить к себе переночевать двух молодых людей? Ради господа нашего, ради Пречистой Девы, не стреляйте, не доводите до беды!»
– Младший не называл старшего «господин полковник»? – перебил ее лейтенант.
– Не знаю, – отвечала донья Лупе неуверенно, пытаясь вспомнить. – «Господин полковник»? Вроде бы называл, а может, и нет. Не помню. Я бедная, невежественная женщина, сеньор. Тот, с пистолетом, сказал, что, если кому-нибудь проговорюсь, он всадит мне пулю в лоб, другую – в живот, а третью – не могу выговорить куда. За что? Чем я виновата? Мужа у меня трактором задавило. Шестеро детей у меня, я их кормлю-пою. Сейчас шестеро, а всего было тринадцать, да семерых бог прибрал. Если меня убьют, эти шестеро тоже помрут. Разве это справедливо?
– Тот, кто грозил вам револьвером, был младший лейтенант? Была у него на плече такая нашивка? На околыше – одна звездочка?
Литума подумал, что присутствует при сеансе передачи мыслей на расстоянии: его начальник спрашивал о том, что его самого только что осенило. У него даже дух захватило, голова пошла кругом.
– Не разбираюсь я в этих делах, – заскулила женщина. – Не спрашивайте меня, не путайте, все равно я ничего в толк не могу взять. Какая еще звездочка? Какой околыш?
Литума слышал ее голос, но отчетливо видел, как в синих сумерках, окутавших городок, донья Лупе стоит на коленях перед летчиком, яростно размахивающим пистолетом, а второй, постарше, горестно, страдальчески, недоуменно смотрит на девушку, своим телом закрывающую Паломино, не позволяющую ему ни приблизиться к незнакомцам, ни заговорить с ними. Видел Литума, как пронесшийся джип точно вымел с улиц, загнал по домам взрослых и детей, собак и коз – никто не хотел впутываться в эту историю.
«А ты молчи, не смей ничего говорить, какое право ты имеешь, как ты смел сюда приехать, кто ты мне? – говорила она, удерживая, оттесняя, отталкивая Паломино, пресекая все его попытки шагнуть вперед и объясниться. И тут же повторяла тому, постарше: – Так и знай, я покончу с собой, но сначала все всем расскажу».
«Я люблю ее, я порядочный человек, я всю жизнь положу на то, чтобы она была счастлива», – бормотал Паломино, не в силах одолеть заслон ее тела и приблизиться к приехавшим. Тот, постарше, даже не взглянул на него, не отрывая глаз от девушки, словно ни в этом городке, ни на всем белом свете никого больше не было. Однако после этих слов Паломино молодой, ругаясь сквозь зубы, двинулся к нему, замахнулся револьвером. Девушка бросилась между ними, и тогда тот, постарше, впервые открыв рот коротко приказал: «Тихо!» Молодой немедля подчинился.
– Он только это и сказал? – спросил лейтенант. – Или назвал его по имени? Как-нибудь обратился к нему? Может быть, он сказал: «Тихо, Дуфо!»? Или: «Тихо, младший лейтенант Дуфо!»?
Да это уж не передача мыслей, это просто чудо! Слово в слово все то, о чем сейчас подумал Литума.
– Не знаю, – отвечала женщина. – Нет, вроде никакого имени он не произносил. Я узнала, что того паренька зовут Паломино Молеро, когда увидела его фотографии в газете, я сразу его признала. У меня чуть сердце не разорвалось! Он, он самый, тот, что девушку похитил и привез к нам. А как ее зовут, я не знала и сейчас не знаю. И тех двоих тоже. Не знаю и знать не хочу! А если вы знаете, то мне не говорите, прошу вас! Я ведь вам помогла? Вот и не надо мне знать этих имен!
«Не бойся, не бойся, не кричи! – сказал тогда пожилой. – Доченька, доченька моя милая. Зачем ты мне грозишь? Ты мне грозишь, ты?»
«Если хоть пальцем тронете, я убью себя!» – дерзко отвечала та. На потемневшем небе ярче засияли звезды. Кое-где в окнах и за тростниковыми стенами домов замерцали огоньки.
«Уж скорей я протяну ему руку и от всего сердца скажу: "Прощаю тебя"», – пробормотал пожилой. Он и в самом деле протянул Паломино руку, так, впрочем, и не взглянув в его сторону. Донья Лупе перевела дух, увидев, что они обменялись рукопожатием. Паломино от волнения едва мог говорить.
«Клянусь вам, я сделаю все, – запинаясь, произнес он. – Она – лучшее, что есть у меня в жизни, она – божий свет…»