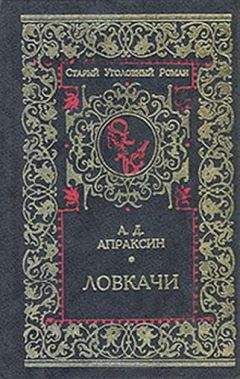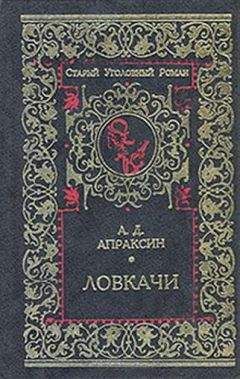Было около пяти, когда компания опомнилась, что так за завтраком засиживаться нельзя.
— Да куда же нам спешить? Не все ли равно? — спросил полковник, по-видимому и здесь себя чувствовавший прекрасно.
— Теперь пять, — сказал Огрызков, взглянув на свой массивный золотой хронометр. — Знаете что, господа? Поедемте к Марфе Николаевне.
— Что там делать? — спросил неохотно Савелов.
— Какая это такая? — спросил заинтересованный полковник.
— Точно ты не знаешь! Солистка русского хора.
— Ах, эта! Да, знаю. Но что же мы там делать будем? — повторил тот же вопрос полковник.
Огрызков слегка запел:
— «Пить будем и гулять будем, а коль сон придет, так и спать будем!»
Все рассмеялись.
— Нет, кроме шуток? — допытывался все дальше полковник.
— Она милая женщина, — пояснил ему Огрызков, — и с нею возможны чисто приятельские, хорошие отношения. Потом, у нее никогда скучно не бывает.
— Да застанем ли мы ее дома? Вот вопрос.
— После пяти всегда. До пяти она просит к ней не приезжать, а после — сколько угодно. Она нам споет что-нибудь. Да мы у нее, наверное, еще двух-трех подруг застанем и сами можем свой маленький хор устроить.
— Это идея!
— А как же насчет нашего вчерашнего решения? — спросил вдруг Савелов, обращаясь к полковнику.
Тот улыбнулся и сказал:
— Ничего не значит.
— Да в чем дело? — спросил в свою очередь заинтересованный Огрызков.
— Мы, видишь ли, — пояснил ему полковник, — решили вчера учредить новое общество.
— Какое общество?
— Общество, или, вернее сказать, клуб под названием «Благоразумная расточительность и относительная трезвость».
— Как, как?
Полковнику пришлось повторить. Огрызков хохотал от новинки и был в восторге.
— Ну, там и трезвость относительная, — сказал он, — и расточительность может быть благоразумною.
Марфа Николаевна была солисткою русского хора и пользовалась особым расположением одного богатого семейного старичка, который к ней мог заезжать только до пяти часов дня, то есть в такое время, когда находился ему предлог вообще бывать в городе.
Тем не менее ходили слухи, что денег для предмета своих ухаживаний он не жалел и давал ей не только раз навсегда аккуратно выплачиваемую ежемесячную пенсию в количестве пятисот рублей, но еще и не отказывал в подарках.
Занимала она целый домик-особняк в переулочке, прилегающем к людной улице, и жила, ни в чем себе не отказывая.
Когда к ней внезапно нагрянула компания, она сама вышла в переднюю и, увидав Огрызкова, которого знала уже давно за человека добродушного, приняла и друзей его очень весело.
— Вы только извините нас, — сказала она, смеясь, — мы сидим за обедом. У меня собрались сегодня все свои.
— Стало быть, добрые знакомые? — не совсем точно понял ее Сергей Сергеевич.
— Нет, по крайней мере, не все, — ответила она. — У меня родные.
— Мы, может быть, не кстати? — спросил Степан Федорович Савелов.
— Напротив, я очень рада.
Из обширной передней перешли в зал с колоннами. Дом напоминал старые помещицкие городские особняки. За большим обеденным столом, поставленным посреди комнаты, сидела компания, в которой преобладали женщины. Двух из них, впрочем, знал Огрызков по хору. Одну из них прозвали Ромашкой, потому что она пила с такою легкостью всякое вино, будто оно было не пьянее ромашки. Другую же прозвал он сам Кисой, по сходству ее манер с нежащейся кошечкою.
Затем тут сидела уже немолодая и даже с сединою брюнетка, видимо когда-то очень красивая; еще одна бабеночка, похожая на портниху, и два кавалера: совершеннейший старик с бритою бородою и с усами, белыми как серебро, и юнец, вольноопределяющийся пехотного полка, мальчик некрасивый, весь в прыщах и неуклюжий до того, что не знал — встать ли ему при входе военного гостя или продолжать сидеть.
— Руки по швам, — скомандовала шутливо Марфа Николаевна и тем выручила обе стороны из неловкого положения.
Гости остановились в поклоне перед обществом, а общество разглядывало их, видимо думая: «Неужели нам помешают?»
Но и тут Марфа Николаевна нашлась: она громко сказала:
— Господа, прошу без церемоний. Кто желает кушать, милости просим к столу, у меня сегодня пельмени. А кому не угодно, пожалуйте в гостиную.
Полковник и Савелов перешли в следующую комнату, где тотчас же удобно расположились на диване и закурили.
Огрызков остался.
— Чудная вещь пельмени! — воскликнул он с такою искренностью, что даже Киса обратилась к нему с предложением:
— Садитесь в таком случае и покушайте с нами.
Ему дали место между Кисою и хозяйкою дома.
— Но я прямо из-за стола, — отнекивался он. — Правда, мы давно кончили завтрак и только потягивали коньяк…
— Тем более, — убеждала его и хозяйка дома, придвигая ему прибор.
Он кланялся через стол Ромашке, и та весело и радушно отвечала ему.
В доме замечалось довольство, и стол был накрыт обильно. Рябиновая и столовая водки закусывались икрою, ветчиною и еще какими-то копченьями. Миска с горячими пельменями была уже подана, и разливательною ложкою вооружилась старуха брюнетка.
— Вот так, Саша, займись-ка ты хозяйством, — одобрила ее намерение Марфа Николаевна.
Та что-то проговорила по-французски, видимо желая щегольнуть перед гостем. Но все почему-то расхохотались.
— Ну, уж зажаргонила! — сказала Марфа Николаевна. — Помешана она у меня на парле франсе.
— Что ж тут удивительного? — отозвалась старуха.
Но Огрызкову уже налили водки, и обе его соседки, одна справа, другая слева, тянулись чокнуться с ним.
Через минуту он добросовестнейшим образом уписывал наравне со всеми остальными пельмени.
— Перчику бы, вот только что! — сказал он.
Киса ему поперчила пельмени, но слишком усердно, и снова поднялся хохот. Каждое слово возбуждало здесь, в этом непринужденном обществе, смех. Только старик и юнец вольноопределяющийся перешептывались между собою, что не мешало им поминутно чокаться: старик очищенной, а юнец сперва рябиновкой, а потом даже уж портвейном.
Портниха не ела.
Она жеманилась и уверяла, что луку не переносит. Это возмущало Марфу Николаевну, и она не без раздражения несколько раз повторила:
— Пельмени без луку не делаются, я, по крайней мере, еще никогда не видала.
Из гостиной пришли смотреть, как уписывает Огрызков.
— Присоединитесь, — еще раз предложила им Марфа Николаевна.
И полковник и Савелов молча поклонились, но не сели.
За пельменями последовали рябчики, и вскоре все встали из-за стола. Старик и вольноопределяющийся совсем куда-то исчезли; остальное же общество собралось в гостиной. Появились на столе фрукты, потом черный кофе и две бутылки: одна с коньяком, другая с бенедиктином.
Старая брюнетка хватила рюмку и ушла в зал. Через минуту оттуда раздались звуки вальса из «Мартина-рудокопа».
Мотив, заигранный, но все же прекрасный, еще нравился. Компания воодушевлялась. Некоторые пошли туда.
Одна портниха держала себя глупо и все время жестикулировала перед лицом своими чрезвычайно грязными руками. Она всем надоела и только одна во всем обществе этого не замечала.
Киса жмурилась, посасывала виноград и все больше завлекала Огрызкова. Он потянулся чокнуться с Марфою Николаевною и многозначительно проговорил:
— Благодарю вас.
— За что?
— Да уж дайте ручку поцеловать. Неужели так и не догадываетесь за что?
Она взглянула на смеющуюся Кису и также многозначительно ответила ему в тон:
— Да, вот что, понимаю!
Савелов льнул больше к той, которую прозвали Ромашкой. Она была веселее всех остальных и вскоре предложила ему протанцевать тур вальса.
Полковник хлопал глазами и хлопал рюмку за рюмкою действительно доброго коньяку.
Киса тоже захотела танцевать, но не верила, чтобы толстый Огрызков мог сделать хоть один тур. Он принял вызов, и оказалось, что танцевал прекрасно. Все были поражены и стали его мучить. Становилось жарко. Надо было отдохнуть. Марфа Николаевна запела, и все смолкло. Мощный, богатый, грудной голос звучал сильно и страстно. Ее слушали с наслаждением, и здесь, в кругу знакомых, у себя дома, она пела еще лучше, непринужденнее, нежели там, у себя в хору.
Но вдруг она вспомнила о времени. Было пора одеваться. Все стали ее умолять не ехать, спеть еще.
— Что вы, что вы? — воспротивилась она. — Этого я сделать не могу. Служба прежде всего.
Оглянулись. Кисы уже не было. Оказалось, что она ушла тоже переодеваться, так как от хористок требовалось появление на месте не позже десяти часов.
Оставались портниха да старая брюнетка — таперша. Ромашка ушла вслед за Марфою Николаевною, так как состояла при ней чем-то вроде адъютанта.