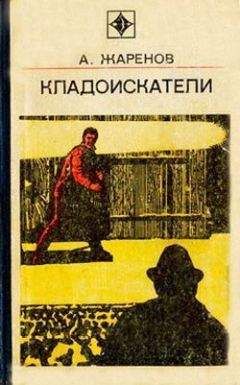Вряд ли Сикорский был телепатом. Но сориентировался он правильно. Он предугадал мой вопрос. Правда, у меня было два вопроса, потому что я сначала спросил бы о Лире Федоровне. Я спросил бы, не давала ли ключи Астахову Лира Федоровна? Оказалось – не давала. Ключами ведала Вероника Семеновна, которая глядела на меня не то чтобы испуганно, но как-то странно глядела, с какой-то потаенной опаской, что ли, и я подумал, что чувство это вызвано вовсе не тем, что Вероникой Семеновной заинтересовался уголовный розыск. Вероника Семеновна уже давала показания Лаврухину. Но то были другие показания. В них говорилось о Лире Федоровне; тогда не было речи ни о ключах, ни о серой папочке. Сейчас вопрос ставился конкретный. И ответ на него последовал тоже конкретный.
– Астахов держал кисти и краски в запаснике, – сказала Вероника Семеновна.
– А ключи? – нетерпеливо произнес Сикорский. – Ключи вы ему давали?
– Я открывала и закрывала дверь. Я никогда…
Вероника Семеновна всхлипнула, не докончив фразы.
Что ей оставалось делать?
Ходил в музей милый веселый человек – художник. Рисовал портреты передовиков для краеведческого отдела. Шутил, комплименты делал Веронике Семеновне, хоть любил, правда, другую женщину. Вероника Семеновна понимала – другая женщина помоложе была, ей и карты в руки. Да и детки у Вероники Семеновны, и муж. Но все-таки приятно, когда тебе по утрам комплименты говорят. И хмурость твоя, и озабоченность повседневностью словно в сторону уходят после комплиментов. И цвет лица лучше становится. И причесываешься ты дольше обычного, и думаешь, что и имя у тебя красивое – Вероника… Да, Вероника Семеновна, открывали вы дверь запасника, художник по утрам краски брал, а по вечерам обратно ставил. И лежала в том запаснике серая папочка, наполненная бакуевским вздором, о котором все давно и думать забыли. Лежала, пылилась. В архив ее не отправили, потому что вздор. И в описи не занесли. По этой причине или по какой другой? Инвентаризации ежегодные проводились. А папочка лежала себе, и никто ее не замечал. Чудное дельце, если подумать. Папка-невидимка. Хотя… Почему невидимка? Наумов с ней работал, Сикорский с месяц назад видел. Значит, не погребена была папка, на поверхности лежала. А ключи от запасника у Вероники Семеновны были. Хранительница…
Допустим, стащил эту папку Астахов. Допустим, что показала ему ее Лира Федоровна. Или рассказала про нее. Про мужа своего бывшего рассказала, про то, как муж клад княгинин искал. И про то, как искать перестал. Мало ли какие сказки рассказывают нынешние Шехерезады своим калифам. Приходящие Шехерезады. Приходящие вкусить лекарства от неврастении, приходящие с Принцем в голове и с пустым сердцем…
Нет, не сходятся концы с концами. Не тот калиф. И Шехерезада-Лира не похожа на соучастницу. Отделяй, Зыкин, любовь от уголовщины, ищи границу, беседуй с Вероникой Семеновной, выясняй, Зыкин, обстоятельства исчезновения серой папочки, сходи в запасник, осмотри его, составь протокол и подшей к делу. Чепуха какая-то получается у тебя, Зыкин. Сначала исчезает альбом, который тебе захотелось полистать, теперь вот папка с документами, которые никому не были нужны, да вдруг понадобились. Что ты, собственно, ищешь, Зыкин? Что ты хочешь от Вероники Семеновны, от Сикорского, от Наумова, от Лиры Федоровны, наконец? Кто-то ходит за тобой, Зыкин, кто-то от тебя убегает. Казаков перед тобой скоморошничает, Дукин в друзья набивается, Валя Цыбина про Золушку и Принца сказки рассказывает… А может, все дело в Лире? Вот только где она? Ждут ее в окошечке «до востребования», на К-9, ждут, когда она заглянет, попросит проверить, нет ли корреспонденции для Наумовой. Ждут ее… Ищут…
Что же получается у тебя, Зыкин? Не версия ли? Симпатичная версия складывается у тебя в голове, Зыкин. Не видел ты, Зыкин, правда, никогда персидских миниатюр, но ты же неглупый человек и представляешь, что это за штука и сколько эти миниатюры могут стоить. А если и не представляешь в полном объеме, так спроси. И Наумов и Сикорский назовут тебе цену коллекции, они-то уж ее знают; знают, сколько нулей надо поставить после единицы, – может, четыре, может, пять. А пять нулей после единицы – это не фунт изюму, такое и по золотому займу за один раз не выиграешь. За эти пять нулей можно и вещички бросить, вещички, нажитые за время беспорочной службы, за эти пять нулей можно и трудовой книжкой пожертвовать, а для отвода глаз письмо в почтовый ящик бросить, и заявление об увольнении подать. Отвечайте мне «до востребования», а я тем временем…
Да, симпатичная версия, но лезут в нее трое. Это как минимум. Один – здесь, два – там. Там – брюнет и Лира, а здесь – убийца, который должен замести следы. Но не слишком ли большая на него падает нагрузка? Пожалуй, слишком. В таком случае не годится твоя версия, Зыкин. Громоздкая она, неуклюжая, усложненная. И Астахов с Лютиковым в нее не хотят помещаться.
Как-то проще все должно быть.
А княгиня в Заозерск не приезжала. И предметы, которые нашлись в квартирах Астахова и Лютикова, и портрет музейный, и предметы, которые не нашлись, альбом, скажем, – все это указывает не на княгиню, а на какого-то «А.В.» На княгиню указывает лишь портрет, который этот «А.В.» написал. Но написал – это одно, написал – не значит вручил. И бляшка золотая, которая «С любовью», не обязательно должна была в руки княгини попасть. Мало ли кому эту самую любовь адресовать можно.
И выходит в итоге, дорогой товарищ Зыкин, что предположение твое о единице с пятью нулями трансформируется в большой вопросительный знак.
– Вероника Семеновна, вот акты инвентаризаций, вот ваша подпись. Объясните, как случилось, что в них нет упоминания об этой папке с документами?
– Инвентаризации производились по описям. Мы их брали за основу и сопоставляли с наличием.
– И что же?
– Не знаю.
– Но вы знали о существовании этих документов?
– Их не было в описях. Но я знаю…
– Почему эта папка не попадалась на глаза членам инвентаризационных комиссий? Неужели никто никогда о ней вас не спрашивал?
– Никогда.
– Вы не находите, что это выглядит… Ну не совсем естественно, что ли? Вы лично эту папку когда-нибудь держали в руках?
– Держала.
– Заглядывали в нее?
– Все заглядывали. Товарищ Наумов тоже.
– Астахов этой папкой интересовался?
– Нет, никогда.
– Лира Федоровна?
– Со мной она об этом не говорила.
– Кто имел доступ в запасник?
– Все. Только… Только ключи всегда со мной. И я…
– Да.
– Я несу персональную ответственность за сохранность фондов. В запаснике есть очень ценные вещи…
– Тем не менее Астахов складывал там краски…
– Он попросил разрешения. Так было удобнее. Не надо бегать через двор. Кроме того, в сарае было холодно, надвигалась зима.
Надвигалась зима… Астахов возник на горизонте Лиры Федоровны зимой. А за полгода до этого Лира Федоровна рассорилась с мужем. Серая папочка тогда лежала на месте. Наумов с ней работал открыто. Но чья-то рука заботливо оберегала эту папочку от взглядов членов инвентаризационных комиссий, кому-то не хотелось, чтобы папка попадала в описи. Ну-ка, Зыкин, тряхни хронологией. После Бакуева за музейный штурвал взялся Ребриков. Было это в пятьдесят седьмом. Ребриков – друг Наумова. И это, кажется, все, что пока о нем известно. Все ли? Ребриков был толковым организатором. Систематик. Это он смыл побелку с первородного греха. И это он толкнул Наумова на поиски княгининой коллекции. Систематик. Почему же он, этот систематик и аккуратист, не запротоколировал серую папочку? Считал ерундой? Может, и так. Но зарубить этот вопрос на носу тебе, Зыкин, нужно. И Ребрикова поискать нужно. Потому что началась эта мистика с папкой при Ребрикове. Ни Лиры Федоровны, ни Сикорского, ни тем более Астахова здесь тогда не было. Был Наумов. А Вероника Семеновна была?
– Сколько лет вы работаете в музее, Вероника Семеновна?
– С пятьдесят седьмого года.
«Значит, была»…
Так, Зыкин. Кажется, наступила пора сказать «пока» Веронике Семеновне, пожать руку Сикорскому и отправляться отсюда с Наумовым, который явно настроен потолковать с тобой. Наедине потолковать, без свидетелей. Он умный мужик, этот Наумов, он смекнул, куда я шагнул, когда заинтересовался трудовым стажем Вероники Семеновны, сообразил, что этим вопросом я и к нему адресовался.
Но чему он обрадовался, когда услышал о пропаже бакуевских бумаг?…
– Я не переношу насмешек, – сказал Наумов, когда мы уселись на скамью в сквере, отойдя от музея шагов на триста.
Портрет княгини, завернутый в газету, лежал между нами. Наумов потрогал сверток и бросил на меня испытующий взгляд, проверяя, видимо, впечатление. Я сказал беспечно:
– Это свойственно всем.
– Я их не переношу, – повторил он. – Я понимаю шутку, я принимаю легкое подтрунивание, но я не выдерживаю холодной язвительной насмешки. Я не могу встать выше, я взрываюсь.