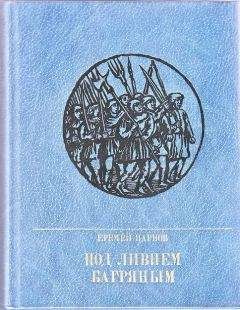– На кладбище, куда упирается эта улица, есть персоны поважнее тебя, Браулио, – не скрывая досады, почти мстительно ответил ему Плиний.
– Куда им до меня, начальник! На кладбище, где гниют покойники, самая важная персона – могильщик., да и тот, разумеется, не чета мне… Мертвецы же, как только уходят в свой бессрочный отпуск, перестают быть персонами; они становятся воспоминанием… Так что я поважнее всех тех, кто покоится там, глядя в крышку гроба и сложив руки на груди.
– Ладно, Браулио, давай обещанный сыр и вино. Хватит кормить нас заупокойными речами. Тем более что Мануэль не расположен сегодня к мрачным беседам.
– Ну что ж, хватит так хватит… И без того яснее ясного, что это прописная истина. У нас, людей, всегда недовольный, мрачный вид, потому что мы от рождения знаем, едва, так сказать, оторвавшись от материнской пуповины, что окончим свои дни в могиле. Не знай мы этого заранее, мы выглядели бы гораздо веселее и не предавались грустным мыслям по ночам. Взгляните на животных: они безмятежны и резвы, потому что им невдомек, какой конец их ждет. А мы, люди, с самого раннего утра до поздней ночи, пока не уснем, даже в лучшие мгновения своей жизни – вы меня понимаете? – всегда думаем об одном и том же, пусть даже мимолетно. Не раз, глядя на цветущую, соблазнительную девушку, я вдруг представлял, как однажды, задушенная смертью, ее красота увянет, оставив после себя лишь легкое воспоминание.
– Интересно, что думают женщины по этому поводу?
– Откуда мне знать, Мануэль? Они сделаны совсем из другого теста.
Под навесом погребка стоял низенький стол с кувшином вина и четвертью золотисто-зеленого сыра, сквозь сверкающие поры которого сочилось масло.
– Ты подлый обманщик, Браулио!
– Это почему же, сеньор коновал?
– Ты сказал, что захотел выпить вина и поесть сыра, когда увидел нас, а стол-то уже накрыт.
– …Есть немного, дон Лотарио. Иногда меня слегка заносит, и я сам не знаю, что говорю. Но главное, мне не терпелось пообщаться с кем-нибудь и найти подходящих сотрапезников. А тут вдруг вижу, вы идете, да так кстати, лучше не придумаешь. Я быстренько выскочил на улицу, спрятался за машину и стал призывать вас к объединению.
– Хитрая ты бестия!
– А еще мне не терпелось сегодня почесать языком в свое удовольствие.
– Ясно. Но прежде чем ты дашь волю своему языку, давайте отдадим должное вину и сыру, при виде которого у меня текут слюнки.
– Ну что ж! За дело, дон Лотарио! И пусть наша болтовня и звон стаканов будут созвучны!
– Такое под стать лишь тому, кто здорово напьется.
– Прошу без намеков, дон Лотарио. Пьяница болтает всякий вздор, а мое красноречие звучит как музыка.
– Тот, кто говорит красивые слова, не подкрепляя их аргументами, уже не философ.
– Да будет вам известно, дон Лотарио, аргументы – это всего-навсего слова к музыке, которыми пользуется философ, чтобы не прослыть пустомелей.
Довольный Плиний, не склонный вмешиваться в беседу, поглядывал на друзей, улыбаясь краешками губ.
– Теперь ты понимаешь, Мануэль, как проводит день Браулио?
– Понимаю, понимаю.
– В душевных излияниях, досточтимые маэстро. Все мы испытываем в этом потребность. Но пока ядовитые умы копят в себе желчь, мы, избранные, достигаем умственных вершин. Итак, сеньоры, выпьем вина и закусим сыром.
Он поднял кувшин, обнес им справа налево всех по очереди, а затем, описав в воздухе круг, воскликнул, посмотрев на Плиний и дона Лотарио горящими глазами, в которых отражался отсвет заходящего солнца:
– Ваше здоровье!
Браулио взял нож и отрезал три ломтя сыра толщиной в большой палец. Сквозь дырочки сыра соблазнительно сочилось золотисто-зеленое масло, так и подбивая слизнуть его. Браулио вкушал сыр, закрыв от наслаждения глаза, ветеринар – полузакрыв, а Плиний – широко раскрыв, но со смыслом.
– Ну как? – спросил Браулио, по краям губ которого лоснился жир.
– Вы правы, преподобный сеньор Сократ, сыр отменный!
– Спасибо вам, досточтимый сеньор философ!
– Если бы детей вскармливали только оливковым маслом и молоком, – неожиданно изрек Браулио, – на свете не было бы столько дураков. Ничто так пагубно не действует на людей, как гаспачо,[2] табак и нейлон.
Солнце цвета шелковистого кокона, низко склонясь, уже целовало верхушки крыш. А трое друзей все еще продолжали наслаждаться, вкушая сыр.
– Если вдуматься хорошенько, Мануэль, – заговорил Браулио, когда от него этого меньше всего ожидали, – то обе проблемы, обрушившиеся на тебя нынешней осенью, станут исторической вехой на твоем длинном жизненном пути… Любая проблема, какой бы значительной или досадной она ни была, со временем вспоминается с удовольствием и становится предметом разговора. Человеку нравится рассказывать о том, что произошло с ним когда-то, даже если воспоминания эти неприятны ему. То, что происходит каждый день, каждый час, быстро забывается. Запоминаешь лишь то, что заслуживает внимания, будь то радости или печали. Например, свидание с любимой всегда доставляет удовольствие, но еще приятнее вспоминать потом, как она себя вела, какие у нее были волосы, как она стояла перед зеркалом… Точно так же смерть дорогого тебе человека причиняет боль, но…
– Снова ты заговорил о смерти, – перебил его дон Лотарио.
– Уж лучше говорить о смерти, чем о блохах или дезодорантах. Так вот, о любой проблеме, какой бы неразрешимой она ни казалась в свое время, впоследствии вспоминаешь с удовольствием. И то, что сеньор губернатор провинции запретил тебе, Мануэль, явно из ревности или по доносу своих лизоблюдов заниматься делами, выходящими за рамки муниципальных, хотя ты лучший сыщик во всей Испании, – нелепое недоразумение, которое принесет тебе еще больше славы, как только ты займешься очередным криминальным делом… Дураков, которые считают себя умнее всех, развелось на свете больше, чем фасоли. Подумаешь, какой-то провинциальной шишке не по душе пришлось, что о тебе так часто пишут в газетах, книгах и считают лучшим детективом в Ламанче! Да этот губернатор, как, впрочем, и все остальные, долго не продержится. Политики словно пух одуванчика – однажды утром их сдует, как бы крепко они ни держались… А ты по-прежнему останешься: умный, добрый, чуткий к людям, презирающий человеческую неблагодарность. Умный и добрый, Мануэль, всегда одерживает верх над хитрыми, чтобы не сказать дураками – тебе ведь известна моя теория относительно того, что хитрость лишь блестящий способ прикрывать свою тупость, – потому что умный смотрит на людей со своей колокольни, знает цену каждому человеку, каждой мысли. Наконец, им руководит здравый смысл, если, конечно, здравый смысл еще существует в этом мире… Да, Мануэль, ты, бесспорно, лучший сыщик во всей Испании! И смешно твои действия ограничивать сугубо охранительными делами: штрафовать водителей машин, разнимать уличные драки, сопровождать процессии. Никто не виноват в том, что твое звание находится в таком противоречии с твоими умственными способностями. Но я уверен: скоро справедливость восторжествует, и, к великому нашему ликованию, ты, несмотря на свою консисторскую униформу, раскроешь преступление, которое не смогут раскрыть твои коллеги, будь они хоть из самой международной полиции или как ее еще там называют.
– Ну, братец, ты уж хватил лишку. Вино здорово ударило тебе в голову.
– Вино тут ни при чем, сеньор начальник. Во мне говорит здравый смысл. Ламанча без тебя превратилась бы в мерзкую пустыню, какой хотят ее видеть идиоты, так как только в пустыне они что-то собой представляют. Но уже недалек тот день, когда они явятся к тебе за помощью, вот увидишь.
Плиний молча стряхнул пепел со своего мундира, а затем сказал:
– Довольно об этом. Хорошенького понемножку.
– Что касается второй проблемы – предстоящей свадьбы твоей дочери, и таким образом мы покончим, как ты просишь, с первой, – то разве ты не мечтал о ее замужестве? Вспомни, сколько раз кривилась твоя физиономия, когда речь заходила о том, что Альфонсе уже исполнилось тридцать, а она все еще не замужем… И вот теперь, когда она идет под венец с любимым человеком – добрым, хорошим парнем, – ты разыгрываешь трагедию. С подобными вещами надо мириться, как с сединой и немощью на старости лет. Дети рождаются, вырастают, рвутся к самостоятельности, хотя и уверяют, будто никогда не покинут своих родителей, и разводят разные церемонии. На самом же деле они стремятся жить своей жизнью, хотят пережить ту же трагедию… Именно поэтому, да и по многим другим причинам, я не женился… Я не женился, потому что хотел остаться самим собой. Хорошим, плохим или посредственным, но таким, каков я есть. Мне надо было проверить, смогу ли я прожить жизнь только своими заботами. Никому ничем не обязанный, только самому себе, Браулио. Нет, нет, это совсем не то, что вы думаете, друзья. Речь идет не об эгоизме, женоненавистничестве или каком-нибудь комплексе. Просто мне хотелось узнать, чего я стою в этой жизни, на что способен. И таким образом вынести себе окончательный приговор. Другого способа проверить себя у меня не было, ведь жизнь у нас только одна, и она стоила такого испытания. Я хотел знать, на что я годен, живя один в этом погребке, в этом доме, наедине со своими мыслями днем и ночью, рассуждая сам с собой, представляя себе другого Браулио, женатого, имеющего детей и получающего те удовольствия, которых лишен я… Когда мне недостает человеческого общения, я выглядываю на улицу и, увидев кого-нибудь из друзей или просто знакомых, которые могли бы скрасить мое одиночество, зову их сюда, под навес погребка… Я хотел на опыте познать, способны ли функционировать мой мозг и мое сердце без любовных утех и переживаний. Хотел стать полновластным хозяином самому себе и умереть до того, как на меня обрушатся болезни, чтобы не обращаться к врачам и нотариусам. Я никогда не говорил вам прежде, но в углу чулана у меня припрятана белая лощеная веревка на случай, если вдруг опротивею самому себе, своему естеству и своей непорочности… Я не выбирал чрева, которое меня породило, однако вправе решать сам, когда и где мне умереть. А это произойдет лишь тогда, когда я найду ответы на все свои вопросы, когда мой мозг откажется мыслить и тело станет мне в тягость.