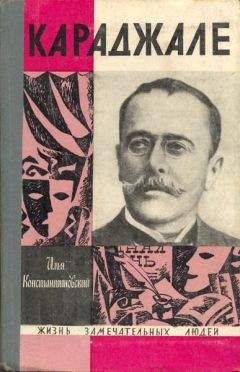— У меня этого нет,— проговорил корчмарь.
— У тебя нет? — повторил Ликэ.— Ладно! Да пойми ты, что этому надо положить конец. Ладно, я это сделаю. Хорошо, что она осталась здесь. Нынче во мне так все и кипит! — прибавил он про себя и пихнул ногой торбу за стоящий поблизости сундук. Потом, выйдя через корчму и ущипнув мимоходом стоящую у притолоки Уцу так, что та вскрикнула, он прошел к Ане, которая стояла под навесом, раздумывая обо всем, что происходило в ее доме.
— Бьюсь об заклад,— сказал Ликэ,— что через полчаса здесь появятся и цыгане. Чутье у них лучше, чем у борзой… Ну уж и закатим мы праздник, каких не бывало! Сегодня у меня хорошее настроение, и знай, что, когда я начинаю пировать, мне что ни подай — все мало!
— Я тоже такая,— проговорила нехотя Ана.
Ликэ подошел к ней ближе и шепнул на ухо, как бы в шутку:
— Я устрою, чтобы Гицэ уехал и оставил нас одних.
Ана затаила дыхание. Конечно, Ликэ шутил, но его шутка была слишком дерзкой и притом задела ее за самое больное место.
— Если только тебе это удастся! — отозвалась она, подняв голову и поглядев на него через плечо, словно хотела прибавить: «Ты очень ошибаешься, если думаешь, что мой муж так мало любит меня».
— Ишь ты, как рассердилась,— сказал он с улыбкой.— Видно, задело за самое сердце? Да если бы я не знал, как сильно любит Гицэ свою жену, я бы уж давно похитил ее.
Это тоже была шутка, но она уже больше пришлась Ане по вкусу.
Ликэ оказался прав. Прошло немного времени — приехали цыгане, и в тот самый момент, когда люди в Инеу входили в церковь, на Счастливой мельнице началось безудержное и разнузданное веселье.
Ана не хотела плясать, пока шли часы святой литургии, и ее оскорблял вид Уцы, еще более распущенной, чем всегда. Но Ликэ, до крайности возбужденный, сжал Ану в объятьях и насильно увлек ее танцевать. Ана бросила взгляд на мужа, но, вместо того чтобы рассердиться, Гицэ вырвал служанку из рук Рэуца и сам принялся плясать с ней, но так, что казалось — он веселится назло другим.
Однако и распущенность имеет свою прелесть: Ана мало-помалу вошла во вкус.
Чтобы еще больше подзадорить всех, Ликэ вынул немного погодя из своего пояса, набитого деньгами, четыре ассигнации, поплевал на них и прилепил одну за другой на лоб каждому цыгану.
— Играйте, пока струны не лопнут! — крикнул он и закружил Ану, которая, по мере того как Гицэ казался все безразличнее, уступала всем желаниям Ликэ и становилась все безрассуднее.
Внутри у Гицэ все кипело. Он сдерживался только потому, что сознавал, до чего жалок и несчастен муж, вынужденный охранять свою жену. И Гицэ делал вид, что веселится, чтобы показать, насколько безразлично ему поведение жены.
Веселье было в разгаре. Дом, казалось, готов был взлететь на воздух вместе с танцующими. Ликэ отплясывал с Аной так, что ноги ее едва касались земли. Гицэ и Рэуц обхватили с двух сторон Уцу за талию, а Пэун и Марц хлопали в ладоши и орали во всю глотку.
Цыгане что есть силы водили смычками по струнам, довольно улыбались и время от времени кидали жадные взгляды на ассигнации, прилепленные у них на лбу. Только одни собаки корчмаря неподвижно лежали на пороге, положив голову на лапы и сонно наблюдая за происходящим.
Устав от пляски, Ликэ опустился наконец на скамью, посадил Ану к себе на колени и принялся шутливо целовать ее, прижимая к своей груди.
Не в состоянии дольше владеть собой, Гицэ сделал вид, что ничего не замечает, и вышел на свежий воздух, под навес.
— Теперь оставь меня,— задыхаясь, сказала Ана.— Гицэ начинает сердиться.
— А разве ты не видишь, что мне только этого и хочется? — ответил Ликэ.— Давай позлим его немного. Эй, Гицэ! — крикнул он.— Так ты, значит, оставляешь мне жену на пасхальное воскресенье?
— Делай с ней что хочешь! — бросил тот, скрывая под шуткой вспыхнувшую в нем слепую, ненасытную злобу.
Ана освободилась от объятий Ликэ, и на некоторое время оживление покинуло их, хотя именно теперь Ана пришла в хорошее настроение и жаждала повеселиться от всей души.
Гицэ между тем обдумывал, под каким бы предлогом, не вызывая подозрений, поехать в Инеу, найти там Пинтю и незаметно вернуться с ним обратно, чтобы захватить Ликэ врасплох.
Был уже час дня, когда Ликэ отвел Гицэ в сторону и сказал:
— Ну, значит, договорились. Ты уходи куда-нибудь и оставь ее здесь, со мной. Ей ничего не надо говорить. Уходи, и она увидит, что осталась наедине со мной. Людям я скажу, что ты пошел спать в конюшню; никто, кроме нас двоих, не должен ничего знать.
Гицэ ожидал этого, но, услыхав слова Ликэ теперь, когда размышлять было уже некогда, словно окаменел.
— Сейчас тебе тяжело приходится,— сказал Ликэ,— но зато с нынешнего дня ты излечишься раз и навсегда. Видишь, твоя жена отдается мне по доброй воле. Уж таковы все бабы.
Глаза Гицэ застлал туман. За два часа он успеет окольной дорогой добраться верхом до Инеу и, как только стемнеет, вернется с Пинтей на Счастливую мельницу.
«Божья воля! — сказал он себе.— Видно, так мне суждено». Но и произнося эти слова, он все еще надеялся на свои силы: ведь несмотря на все то, что видел, он не верил, что Ана… его Ана может отдаться в руки такого человека, как Ликэ.
«Ну а случись так — тем лучше,— мысленно заключил корчмарь.— Надо же ведь наконец положить предел всему этому. Знаю одно: если не выгорит и теперь, то жизнь моя пропала…»
— Хорошо,— ответил он Ликэ.— Когда я должен вернуться?
— Завтра утром.
— Только одно,— прибавил Гицэ.— Делай что хочешь, но не срами меня перед людьми; старайся, чтобы никто ничего не заметил.
— Ну, ясное дело. Да разве Ана на людях позволит мне подойти к ней? — сказал Ликэ, отходя прочь.
Гицэ долгим взглядом посмотрел ему вслед, потом он вернулся в конюшню, поглощенный и ослепленный одной мыслью; он ставил на карту всю свою жизнь с единственной целью — показать, что не боится ее потерять.
Пока Гицэ на конюшне седлал и взнуздывал коня, Ликэ что-то приказал Рэуцу.
— Ладно,— сказал Рэуц, заканчивая разговор,— как только стемнеет, мы их оставляем там, возвращаемся назад и где-нибудь спрячемся. Появимся только по твоему знаку.
— Крикну филином! — подтвердил Ликэ и снова присоединился к общему веселью.
Через некоторое время Рэуц спросил присутствующих, не хочет ли кто из них ехать вместе с ним в Шикулу.
— Заложим лошадей в тележку Гицэ,— предложил он,— посадим в нее цыган и отправимся на свадьбу. Уца! Давай и ты с нами! Пасха-то бывает один раз в году. Прихватим и Марца.
— Я бы тоже не прочь поехать,— заявил Ликэ,— но никак не смогу. К тому же мне давно следует быть в Фундурени и нельзя больше терять время здесь или в Шикуле.
— Прихватим Марца? — с хитрой улыбкой переспросила Уца.— А кто его знает, где он сейчас? Наверно, перепрыгнул через забор где-нибудь в Фундурени, да и посиживает у своей милой. Но я-то поеду с вами, если возьмете.
Ане хотелось теперь лишь одного: остаться вдвоем с Гицэ. Вскоре, однако, заметив, что Гицэ не было при отъезде всей компании и что он все не возвращается, она начала беспокоиться.
— Что-то Гицэ заспался,— сказала она, поднимаясь.
— Он тоже уехал,— спокойно проговорил Ликэ.
— Кто?
— Гицэ. Разве я тебе не говорил, что устрою так, чтобы он уехал?
Щеки Аны вспыхнули, она отвернулась от Ликэ и пошла искать мужа, но увидала, что он уже направляется вверх по долине. Он ехал верхом в сторону Фундурени. Ана остановилась. По всему телу ее пробежал холод. Потом она снова вернулась к Ликэ и сказала с улыбкой:
— Да, он уехал. Что ж, тем лучше!
Ликэ встал с места, делая вид, что тоже собирается уходить.
— Ты что это? — спросила Ана.
— Разве я не говорил тебе, что мне тоже надо ехать?
— Зачем переливать из пустого в порожнее? Оставайся! Ты мужчина, Ликэ, а Гицэ всего только баба, наряженная в мужское платье, и даже хуже.
Говоря это, Ана приложила к щекам ладони, чтобы остудить их жар, кончиками пальцев откинула волосы со лба и сказала, оглядываясь вокруг, как человек, потерявший всякое самообладание:
— Плохо ты поступил, отослав всех отсюда. Мне бы сейчас хотелось видеть вокруг себя много, много людей и так веселиться, чтобы волосы поднялись дыбом! Веселиться, пока не свалюсь на землю без сил. Но теперь и так хорошо: только ты обещай одну вещь.
Ликэ не сводил удовлетворенного взгляда с ее пламенеющих щек, дико горящих глаз и полуоткрытого рта, похожего на перезрелый абрикос, любовался всей ее высокой, гибкой и хрупкой фигурой. Он чувствовал, что теперь находится в ее власти, и, казалось, намеренно старался продлить это ощущение.
— Я сделаю все, что ты захочешь,— сказал он и притянул ее к себе.
Смеркалось.
Днем стояла совсем летняя жара, и еще теперь, на заходе солнца, в воздухе чувствовалась какая-то тяжесть. Вдруг сразу посвежело, поднявшийся ветер пригнал с востока облака, затянув ими небо и непрерывно гоня их вперед, на запад.