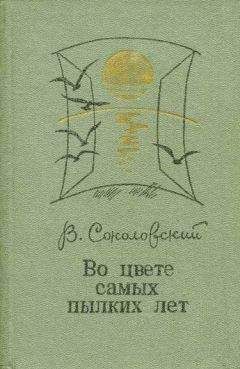Проще всего было бы дисциплинарно, приказами и наказаниями, попытаться пресечь ненужные настроения. Однако Войнарский не сделал этого. Исподволь, но уверенно и неуклонно он прививал коллективу дух идеи и подвижничества, ибо знал: сотрудник, вкусивший его, будет нести тяготы опасной своей работы не с хвастливым сознанием совершаемого ежедневно подвига, а с чувством труженика, возделывающего нелегкое свое поле. Суперменские настроения Войнарский искоренять особенно и не старался: чрезмерная борьба с ними рано или поздно привела бы к мелочной опеке, канцелярщине и боязни самостоятельных действий. Да и сам Юрий Павлович в достаточной степени был романтиком, чтобы не сознавать всю притягательность суперменства для молодых ребят-комсомольцев, основного состава уголовного розыска. Для них не было большего счастья, как с юмором, с этаким поигрыванием говорить об операциях, засадах, ранениях; мол, было дело — и поди разберись, ухало ли сердце навстречу пыхающим выстрелам, обливалось ли жаром тело, почуяв в себе горячо раздирающий клетки кусок металла?
За всей круговертью свалившихся в последние дни на него дел Войнарский ни на минуту не забывал о Кашине: тот был единственным человеком, которому хоть немного «посветило» в деле розыска неуловимого Черкиза. И боялся за него. Несмотря на уговор, он хотел все-таки послать кого-нибудь подстраховать Семена, но, вызвав Казначеева и услыхав объяснения по поводу их нечаянной встречи, сплюнул в ярости, изругал обоих: «Конспир-раторы! Господи, ну за что же мне такое наказание?!» — и отказался от своего намерения. Кашина эта подстраховка вряд ли спасла бы, а замеченная слежка могла пресечь единственную тонюсенькую ниточку.
Юрий Павлович сознательно оставил также Семену розыск по делу об убийстве Вохминой: он почти никогда не перепоручал расследований, начатых одним человеком, другому, кроме случаев исключительных, например, гибели или увольнения. Агент, своими глазами увидевший обстановку, следы преступления, обычно результативнее ведет поиск. Потом — у человека всегда должно быть в запасе какое-то дело. Еще неизвестно, чем кончится вся эта затея с Черкизом.
Раздалось посвистывание, кусты вверху зашумели. Войнарский обернулся — по тропочке спускался Семен.
Двигался он вразвалку, выражение на лице имел таинственное. Приблизившись, шлепнулся на траву, не поздоровавшись. Начальник губрозыска потянул носом:
— Ты выпил, Сеня? С горя, с радости?
— Так получилось, — неохотно ответил агент. — Лезет со своей водкой, мразь проклятая. У-у, раздавил бы!
— Э, да ты и злой к тому же! Что, не получилось?
— Кто его знает, сам не разберусь…
И Семен рассказал, как он ходил к Витеньке.
— Зачем же сердиться? — выслушав, сказал Войнарский. — И то хлеб. Неплохо, неплохо.
— Да ну его к черту! — зарычал Семен. — Вот юлит, вот юлит. Я, мол, человек сложный и простым людям не очень-то доверяю. Для него сложный негодяй милее, чем простой праведник. А я думаю — обыкновенный подлец.
— Что я тебе отвечу? — с грустью проговорил Юрий Павлович. — В чем-то ты прав, наверное. А все-таки скажи мне кто-нибудь, что я личность простая, без сложностей, — ведь обижусь. Вида не покажу, а обижусь. Мало ли чего время и природа в человеке не намешают! Вот разбираться во всем этом мы с тобой и поставлены.
— Что вы! Разве разберешься?
— Приходится, такое дело. Я вот теперь тоже мучаюсь: кажется, никто лучше меня не знал Мишу Баталова… Эх, парень, парень — от всех ушел, все скрыл. Ты не думал, Сеня, почему так получилось?
Кашин не ответил, только поежился.
— Н-да… Тоже сложный был человек. Все хочу домой к нему сходить, с бабкой потолковать, да времени нет. И тебе неплохо бы, все-таки по его следу идешь.
— Я схожу! — серьезно пообещал Семен. — Обязательно схожу. Вот что еще: неужели самое главное — перед собой оправдаться?
— Нет, это вряд ли. Во всяком случае, сложностью этой ничего оправдать нельзя. А Гольянцева я немного понимаю. Натура такая — трусливая, всеми битая. Чего уж теперь, казалось бы, надо человеку? И жизнь, по сути, прошла, и место сытое, не пыльное, а тоже, смотри, справедливости ищет. По-своему, а ищет. Я вот думаю, не появись ты тогда в ресторане, он все равно бы нашел к нам лазейку.
— А почему же он Баталову не помог?
— Может, и помог, откуда ты знаешь? А может, и не помог, вот теперь и терзается, что на его глазах парень сгорел.
Семен повернулся резко, хотел что-то сказать, но Войнарский остановил его:
— Тише! Глянь-ка туда. Видишь, язенок плавится? Видишь?
Язенок всплывал, плескался, ввинчивался в зеленую глубину гибким своим телом. Вдруг что-то быстрое и тяжелое ударило рядом, пузырьки взвились вверх, и рыба, испуганно дрогнув, стремительно унеслась к тени прибрежных ив. А Семен Кашин, кинувший гальку, стал следом за Войнарским подниматься по угору.
Из газеты: КЛУБ ОТКРЫЛСЯ
Строили наполовину сами рабочие, сверхурочно. Недавно открыли. Теперь лесозавод имеет уголок культуры — свой клуб.
На торжественное открытие пришли все. Приветствовали и от губкома профсоюза, и от ячейки ВКП(б), и женотдел, и ленинцы-новобранцы.
Митинговали. Спектакль. Потанцевали.
Немножко смешно было, что президиум собрания был составлен из товарищей, не принимавших никакого участия в постройке.
Ну, да это ничего. Главное — еще одним уголком культуры на производстве больше.
Дрягин ОБЪЯВЛЕНИЕ
Похищен профсоюзный билет на Кондрякова Н. Я., выданный союзом торгслужащих за № 1986. Считать недействительным.
В тот день, когда Николай Малахов впервые проснулся в стенах неожиданно ставшего родным дома, он не пошел на работу. Встав с кровати, нашел на столе записку: «Колинька дорогой я ушла на базар. Не думай что я цыганка ветренная. Пусть все будет хорошо как в кино а о раньше не станем вспоминать. Ну до встречи куплю луку укропу квас есть сделаю окрошку».
Николай снова лег, закинул руки за голову и тихо засмеялся: он был дома наконец. Он обрел его, свой дом, — крыша, под которой он находился, была его крышей, а женщина, что жила здесь, была его женой. Нежность, любовь, хмель свободы и радости бродили в сердце, кружили голову. Разве мог этот родной, отгороженный от остального мира крохотный кусочек пространства сравниться с тем, что раньше заменяло ему кров: застланное низкими тучами серое бивуачное небо, казарма, квартирка Фролкова, чистые звезды пригородных лугов. Там он находил приют — тревожный и ненадежный. А здесь… Он положил руку на грудь и глубоко, судорожно вздохнул. Встал, оделся, заправил кровать, сел на табуретку и стал ждать ее возвращения. Тикали ходики, плескалась черемуха за окном, пахло закисающим квасом и малиновым вареньем.
Она пришла около полудня — стукнуло в сенках, растворилась дверь, — бросила у порога тяжелую сумку, прислонилась к косяку и сказала:
— Ох, задохнулась… Уж я торопилась: ударило в голову, что ты от меня ушел. Чтой-то я — ах, дурочка! Ну, здравствуй опять.
…День был тих и зноен. Очнувшись после недолгого послеобеденного сна, она стала собираться на работу. Малахов пошел проводить, уговорив заглянуть по дороге к артельщикам. Те, увидав их вместе, торжественно умолкли и только смущенно покряхтывали. Наконец десятник не выдержал:
— Што, женился? Ах ты, едрит твою… — Он закашлялся, сплюнул и, подойдя к ним, сунул Николаю ладонь. Затем взялся за пальцы девушки, прильнул к ней и быстро клюнул в щеку. Отскочил, взъерошенный и зардевшийся; подмигнул Малахову и победно обвел глазами мужиков. Те захохотали, загалдели и стали подходить к жениху, гулко бухая его в спину. Он растерянно улыбался. Кто-то затянул «Во лузях, во лузях», но его оборвали. Огромный Кузьма яростно чесанул затылок и прогудел:
— Ну и свадьба, мать честная! И по усам не текло, и в рот не попало.
Николай глянул на него; что-то сообразив, закружился среди мужиков, наговаривая:
— Обождите, обождите! Вот я ее на работу сопровожу, да и вернусь, тогда уж сообразим, сообразим!
— Ты оставайся с ними, — сказала она. — Вон они какие — чудные, ей-богу! Я одна дойду. А ты встречай меня, ладно? Не загуляй, смотри! — И пошла по тротуару.
Анкудиныч вынул деньги, отсчитал несколько ассигнаций и помахал ими:
— Вы меня поняли, нет, мужики? Теперь, значит, шабашим, и — гулять, а потом я поровну со всех вычитаю, не надо бы парня на первых порах в убыток вводить.
— До-обро-о!
Как тут и был, вывернулся из дверей своей лавки раскосый азиат с косичкой и замер, вежливо кланяясь и прижимая к груди короткие ручки. Десятник подозвал его:
— Подь-ко сюды, хмырь черемной!
Тот подбежал, забормотал, сгибаясь учтиво:
— Дластуйте, длуга. Сево-сево нада?