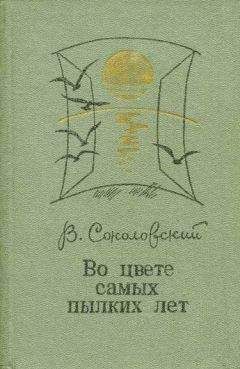Комната, которую он снимал у хозяина под видом разъездного торгового агента, имела вид девичьей — так в ней было чисто, светло и уютно, хоть и не весьма просторно. Две гравюрки на стене, и притом весьма недурные; еще одна рамка: пожилая, усталая, красивая дама в тяжелой пелерине. Небольшая полочка с книжками, поэзией преимущественно: Лермонтов, Апухтин, Тютчев, Веневитинов. На спальном столике, обложкой вверх, для любопытных глаз хозяина ли, другого ли постороннего человека — пухлый «Капитал». Роскошный трельяж с баночками и кремами, и среди них на подставке — фото заседланного красавца-иноходца. Еще лошади по стенам: здесь, там… Умные глаза, крутые бока, лоснящиеся крупы. Ни малейшего признака беспорядка, конечно. Пилочка для ногтей — в специальном бокальчике, для того предназначенном; обувная ложка с витым шнурком — на крючке у дверей, и горе тому, кто положит ее в иное место. Вчера, например, был нервический припадок после того, как приходил вечером некто неясный с долгожданной вестью. Заметался по своей ухоженной квартирке Александр Александрович, разыскивая заветную тетрадочку с мыслями, изречениями и стихами собственного сочинения. Не найдя на привычном месте, упал в креслице, бахнул о его ручку дорогую пепельницу — и вот, испортил вещь. Тетрадочку после, спокойно подумав, нашел, естественно, и тогда так стало жалко пепельницы — хоть плачь.
Итак, Александр Александрович Мартынов проснулся.
Будто щелкнула в мозгу тонкая пружинка: тинк!
Легко спрыгнул с кровати, побежал к умывальнику во дворе, фыркал и плескался под ним. Еще в юнкерском, памятной и милой Александровке, прекрасен был момент пробуждения: вставай, вставай! — поет труба; тугим луком сгибается тело, сбрасывая одеяло. Впереди день — твой день!
По сути, мы ничего почти не знаем пока об этом человеке. Потому обозначим кратко вехи, хоть бы до переворота: пухлый приготовишка с ранцем, спешащий на урок, путаясь в полах длинной шинели; гимназист выпускного класса, прячущийся в театре от вездесущего инспектора; юнкер, целующий гимназисток на уютных сокольнических дачках; бравый офицер — подпоручик, затем поручик…
Не подоспей революция, перечень этих вех можно было бы продолжить без особого труда: служба давалась Мартынову легко, прошло время — стал бы он и превосходительным, а может быть, и высокопревосходительным, носил бы шинель на красном подкладе, вышел в отставку с большим пенсионом и гулял бы с внуками по тем дачкам — седой благородный генерал.
А его вместо этого занесло черт-те куда, подумать невозможно — в бандиты!
Ударит час, обрушатся расписанные надолго и накрепко судьбы, и кидает людей той порой пригоршнями, россыпью в белый свет, как в копеечку! А дальше мучило, трясло, перевертывало на ухабах — и вот, довертело… Но дело не в этом. Почему же путь, презираемый обычно просвещенными людьми, достался именно ему, Александру Мартынову?
По части денег, отметим это сразу, он всю жизнь был довольно равнодушен. Хватало бы на еду, одежду, маленькие бытовые мелочи. Не замечалось в нем и особенного честолюбия, в отношениях с товарищами и подчиненными по службе он держался ровно и доброжелательно, твердо усвоенный устав офицерской чести выполнял свято, хоть и не всегда это было ему выгодно.
Единственно, чего всю жизнь не хватало нынешнему Черкизу и к чему он всю жизнь стремился, была любовь. Он ждал и искал ее со стороны самых разных людей. Ни солдат, ни партнер по игре, ни последний извозчик не могли избежать чар, направленных на них жаждущим любви целого света Александром Мартыновым. Найти для каждого необходимое тому слово, интонацию, затронуть точно и больно поющий нерв, который отзовется сразу и благодарно на опытную в добывании любви к себе душу, — о, это была целая наука! Иногда это удавалось ему, иногда нет, но в любом случае он рассматривал удачу или неудачу как вопрос тактики и тогда подробно анализировал взгляды, слова, вздохи и касания. Бывали удачи, бывали. По крайней мере, те двое, что нам известны — Маша Лебедяева и баянист Витенька Гольянцев, — в большой степени испытали силу мартыновского обаяния и поддались ему, несомненно. Однако любовь их к нему, как известно, тоже имела свои границы. Полную же любовь к себе, самозабвенную и истинную — так ему казалось, — он испытал именно в мире, где господствовало звонкое и хлесткое имя — Черкиз! Любовь, вера, безусловная и слепая, со стороны людей самого различного происхождения и умственного уровня — от бродяг и микроцефалов до бывших студентов, офицеров и дьяконов. И всеми ими управлял он — сильный, умный, когда надо, безжалостный, порою ласковый и доверительный, — применяя ту же науку достижения любви. Только что выбор средств здесь был, соответственно, более широк: в него входило не только размягчение души испытуемого, но в ряде случаев и просто примитив, как-то «удар-скуловорот» да и кое-что посильнее, что позволяло ему возвышаться в своих мечтах до настоящего «рыцаря плаща и кинжала».
Когда-то заброшенный в этот город в поисках тайной белогвардейской явки, нашедший ее разгромленной и едва сам не угодивший в руки ЧК, он попал в шайку совсем случайно. Однако мысль о побеге ушла как-то разом, едва он понял, что только здесь возможна для него настоящая жизнь — обожаемого владыки. С этого началось его новое бытие: справиться с тогдашними главарями орудовавших в городе шаек и объединить их под своим руководством он сумел без особого труда. Явку, к которой он стремился несколько лет назад, Черкиз все-таки нашел, хоть и не в том лице, какое предполагалось. Новый союзник держал Мартынова на расстоянии: «Извольте же слушать столбового дворянина и старшего по чину, поручик!» И Мартынов слушался, выполнял все приказы, твердо памятуя, однако, о том, что Лунь признавать не хотел, совсем упускал из виду: он, конечно, голова и личность в этом смысле замечательная для дела, ну, а если глянуть по-другому? Пожилой человек, немощный именно тем, что сила реальная — не у него, нет… Недавнюю операцию по взятию сберкассы оба положили считать последней: стало опасно, недавно угрозыск совсем сел на хвост, пришлось убирать одного… Хотя и с этим получилась неувязка: Федьку утром нашли убитым, а посланный с ним новенький вообще куда-то исчез. Ладно, теперь осталось уже совсем недолго… Формально, как Черкиз объявил своим, дележка — «тырбанка» — откладывалась до прибытия посредников, должных обменить ассигнации на золото; но были куплены уже два билета: без всякого дележа Черкиз и Лунь уезжали на Восток, к маньчжурской границе, и вот там-то Александром Александровичем Мартыновым запланирован был последний выстрел…
До вчерашнего вечера предстоящее тяжелым грузом висло на сердце, однако весточка, что принес некто неясный, наполнила радостью безмерной, и радость глушила тревогу. Пришла в ресторан, звала к себе, давала знак женщина — сладкая, далекая, недоступная доселе! Четыре года копил он этот миг, готовил, лелеял — и вот, и вот, когда уже совсем было потерялась надежда на успех, она зовет его. Значит, отказалась-таки от своего чумазого, поняла, радость, его, Сашичкино, предупреждение. Это при нем-то, живом, невредимом, попробовать добровольно от него отказаться — ах уж, нет! И меры, в ином случае, были бы приняты незамедлительно, будьте уверены. Но — поняла, все поняла, милая… Еще одна гордость питала Мартынова все эти годы: он ни разу не усомнился в том, что вынес из всех своих жизненных перипетий душу чистую, нежную и способную к высоким устремлениям. Не было лишь — и это было его печалью — человека, который оценил бы его. И вот теперь зов женщины он воспринимал не только как залог правоты своей жизненной линии, но и как закономерное обретение такого человека. И где-то уже брезжилось этакое неясное, мерцающее такое, вроде совместного житья в Квантуне… а, дьявол!
Сегодня вечер — его вечер!
Сегодня ночь — его ночь!
О Кармен!
Кстати, надо будет сказать ресторанщикам, чтобы подтянули у пианино «до» во второй октаве, — в конце концов, это становится уже неприличным, господа!
Из газеты: * * *
Состоялся суд над Козловым Петром Егоровичем, членом ВКП(б), 35 лет, кавалером ордена «Красное Знамя», по обвинению в провокационной деятельности в период 1910–1912 гг. Козлов признал себя виновным. Бывший провокатор приговорен к высшей мере социальной защиты, но по давности совершенных преступлений, молодости в то время обвиняемого расстрел заменен 6 годами лишения свободы со строгой изоляцией. Приняв во внимание боевые заслуги Козлова на гражданских фронтах, срок наказания сокращен наполовину и без строгой изоляции. Кроме того, Козлов лишен «Красного Знамени».
Выйдя к центру, Малахов остановил прохожего милиционера и спросил адрес губрозыска. Направился туда, не глядя по сторонам, часто обтирая обильно выступающий пот. Он все решил для себя. Голова была пустой и тяжелой, и тяжел был его медленный шаг. Подошел к двери с вывеской, постоял немного и, судорожно уцепившись, рванул на себя большую ребристую ручку. Дверь отворилась с лязгом, втянула Николая в прохладное помещение и выбросила на ступеньки идущей вниз лестницы. Напротив ступенек зияло окно, там громоздился дежурный. К нему все время заходили люди, нервно разговаривали, смеялись, выходили обратно — и, мимо Малахова, — вверх, на улицу.