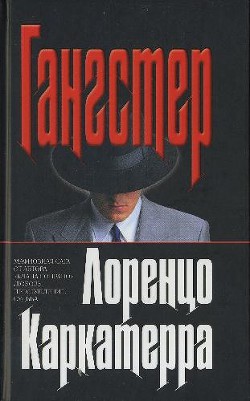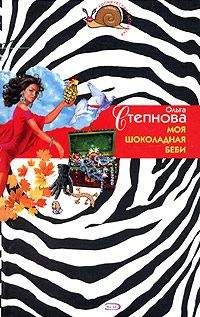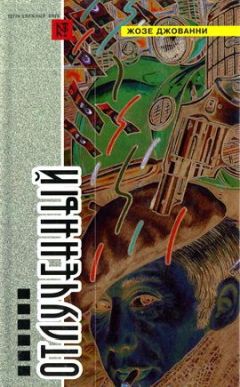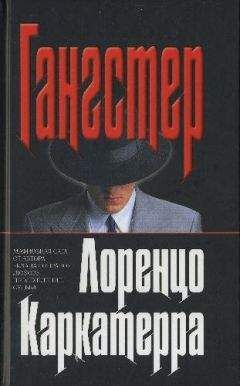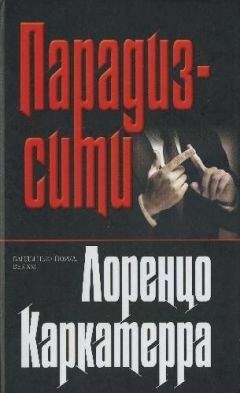Он шагнул поближе к Гаспаре и своему сыну, как будто не видел двоих мужчин, стоящих в углах комнаты.
— Так или иначе, — сказал Паолино, — но сын уйдет вместе со мной.
— Разговариваешь ты смело. — Гаспаре снова взял сигару в зубы. Его голос сделался резким. — Но мы еще посмотрим, надолго ли хватит твоей смелости.
— Позволь мне забрать моего сына, — вновь сказал Паолино, ощутив, как по его шее и спине потекли струйки пота.
— Мне больше нечего тебе сказать. — Гаспаре махнул рукой, указав Паолино на дверь. — Отправляйся к своим овцам, пастух. Ну а о мальчике я позабочусь.
Паолино упал на колени, лупара, до того висевшая за спиной, вдруг оказалась у него в руках. Но он направил стволы не на преступника Гаспаре. Оружие было нацелено точно в грудь его любимого сына. Двое мужчин, стоявших в углах, выхватили пистолеты и взяли Паолино на прицел. Гаспаре отшатнулся от мальчика, продолжавшая дымиться сигара выпала у него изо рта, и он поймал ее на лету. Карло уставился на отца, его губы дрожали.
— Ты убьешь единственного сына? — спросил Гаспаре. — Прольешь родную кровь?
— Для него лучше совсем не жить, чем жить с вами, — ответил Паолино.
— У тебя духу на это не хватит, — сказал Гаспаре. — Я даже не знаю, смог бы я сам сделать такое.
— Тогда спаси его и позволь уйти домой вместе со мной.
Гаспаре нескольких минут смотрел Паолино прямо в глаза.
— Нет, — сказал он в конце концов и покачал головой.
Паолино отвел взгляд от Гаспаре и посмотрел на сына. Он ощущал себя так, будто они лишь вдвоем остались на свете. Тяжелый взгляд мальчика сказал отцу все, что ему требовалось знать. Каморре не потребуется прилагать больших усилий, чтобы развратить душу ребенка и настроить его против тех, кого он любил раньше. Они совратят его фальшивым романтическим представлением о власти и богатстве, без труда соблазнят обещаниями безбедной жизни, намного более интересной и привлекательной, чем жизнь сына пастуха. Это будет дурная жизнь, в которой не останется места порядочности и добру. У них было недостаточно времени, чтобы полностью восстановить мальчика против отца, но Паолино ясно видел, что эта работа уже начата. Мальчик станет вором, преступником, а когда–нибудь и убийцей.
— Я люблю тебя, Карло, — сказал Паолино и нажал на спусковой крючок.
Он не отвел взгляда и видел, как ударом пули его сына с силой швырнуло в стену рядом с камином. Карло, убитый рукой родного отца, сполз на пол, его лицо с полуоткрытыми глазами оказалось в считаных дюймах от потрескивающих, разбрасывающих искры поленьев.
— Теперь он не принадлежит никому, — сказал Паолино.
Он отбросил лупару и подошел к камину. Наклонился, взял сына на руки, повернулся и ушел.
Эту часть истории я очень хорошо помнил. Многие из сторонников старика ссылались на высочайший накал страстей, сопровождавший все эти события, для того, чтобы объяснить ту жестокость, которая пронизывала всю его жизнь. Брат, которого он никогда не видел, был убит родным отцом, которого он так никогда и не смог понять, в стране, которую ему никогда не хотелось посетить. Естественно, говорили они, такие душевные травмы не могут не оставить глубоких шрамов. Сейчас же, слушая в ночной тишине рассказ Мэри, я вдруг задумался о том, могла ли его жизнь пойти по–другому, если бы Паолино Вестьери просто повернулся бы и вышел из той комнаты, не поддавшись своей старомодной и примитивной принципиальности, не испугавшись того, что его сын вырастет «человеком иного времени». И еще я думал о том, видел ли старик хоть каплю иронии в смерти своего брата в свете того, как пошла его собственная жизнь. Поскольку не могло быть никаких сомнений в том, что именно убийство Карло явилось тем семенем, из которого проросла вся судьба старика.
Паолино Вестьери похоронил отца и сына на холме, на берегу Неаполитанского залива. Там они и будут покоиться, защищенные от палящего летнего солнца и ледяных осенних ветров теми самыми двумя большими соснами, на которые Паолино забирался еще мальчиком. Могильщики засыпали гробы землей, а Паолино глядел на безмятежный пейзаж, зная, что видит его в последний раз. Гаспаре сообщил об убийстве Карло местному констеблю, превратив Паолино Вестьери в то, чем он никогда не мог даже представить себя, — в убийцу, за которым охотится полиция.
Он быстро и без шума продал свою землю, всю теплую одежду и оставшихся овец местному торговцу. Вырученных денег едва–едва хватило на то, чтобы оплатить проезд двух человек — его самого и жены — на «Санта—Марии», которая должна была покинуть Неаполь в ночь на 17 февраля 1906 года. Доктор предупредил Паолино, что будет лучше, если он отложит отъезд до весны, чтобы жена смогла родить здесь, в спокойных условиях.
— Каждый день, проведенный нами здесь, — это лишний риск, — ответил ему Паолино. — Мы должны уехать немедленно.
— Нельзя подвергать женщину, готовящуюся произвести на свет новую жизнь, такой опасности, — настаивал доктор.
— Здесь нет никакой жизни вообще, — отрезал Паолино. — Ни новой, ни старой.
— Дайте своей жене и ребенку шанс, — умолял доктор.
— Убраться отсюда как можно скорее — вот их единственный шанс, — сказал Паолино.
Франческа, его жена, сидела, привалившись к испещренной сальными пятнами стене покидаемого дома, ее лицо было полускрыто густыми растрепанными каштановыми волосами. Она потирала огромный живот, а глаза с силой зажмуривала, надеясь приглушить постоянно терзавшую ее боль. Она была дочерью фермера, единственным ребенком в семье, где ее воспитывали, как мальчика, заставляя работать на земле от темна до темна. Жизненные трудности были ей столь же знакомы, как вкус свежих помидоров из материнского огорода. Но, оказывается, всего, что она вынесла до сих пор, судьбе было недостаточно.
Она впервые заговорила с Паолино в городе, куда крестьяне собрались, чтобы отпраздновать окончание сбора урожая. Ей было тогда шестнадцать, ее тело уже начало обретать женственную округлость, но оставалось еще по–девичьи стройным, а ее быстрая теплая улыбка привлекала заинтересованные взгляды множества молодых людей. Ее деликатность позволяла даже самым стеснительным осмелиться пригласить ее потанцевать или предложить стакан домашнего вина. Паолино она много раз видела раньше: то на городской площади, где он разговаривал со своим отцом или смеялся и перешучивался с друзьями, возвращаясь домой из школы, то в тихой толпе прихожан в старой деревянной церкви. Он был силен и красив и в во–семнадцать лет казался гораздо взрослее, чем большинство его сверстников.
Он не приглашал ее танцевать, не угощал вином. Он считал, что такое начало знакомства будет неправильным. Вместо этого он вручил ей белую розу, сорванную в саду его матери, улыбнулся и ушел. Она улыбнулась ему вслед, и тепло, которое она вдруг ощутила в животе, сказало ей, что скоро она станет замужней женщиной.
— Те наши первые семейные годы были совсем особыми, — сказала как–то раз Франческа своей матери, когда обе женщины занимались приготовлением очередной трапезы из тех, что сливались в бесконечный цикл кормления большой семьи. — Наверно, так бывает всегда, когда двое молодых людей любят друг друга. А потом все кончилось. Жизнь лишилась солнца и погрузилась в кромешный мрак. Туда, откуда не бывает выхода.
Паолино много раз пытался объяснить жене причины своего ужасного поступка, но она то ли не смогла, то ли не пожелала его понять. А ведь он и в самом деле считал, что жизнь каморриста гораздо хуже, чем безвременная смерть. Он был готов пройти жизнь до конца, каждую минуту помня о том, что убил своего родного сына, лишь бы только не увидеть, как мальчик превращается в мерзавца, ведущего охоту на тех, кто слишком беззащитен для того, чтобы сопротивляться.
— Ты думаешь, что быть пастухом и все время жить впроголодь лучше? — спросила его Франческа.
— Он жил бы, замаранный кровью других людей, — ответил Паолино.