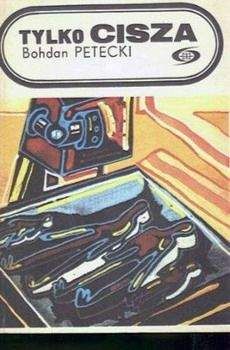поклонников, чаще всего или недоволен, или озабочен. Или спит. На фотографиях же Милованова был ангел. И можно было поверить, что эти глаза никогда не бывают ни холодными, ни злыми. Сквозь них всегда светит серебристый луч солнца или лампы, они всегда смотрят тебе в самую душу. Полонский пьет воду из пластиковой бутылки, высоко запрокинув голову. Улыбается верной Оксане, извиняясь за что-то, улыбается искренне, пуская в ход все свое обаяние до капли, наверное, и правда виноват. Говорит с кем-то по телефону: держит трубку обеими руками, мобильник теряется за длинными пальцами. Лицо у него растерянно-радостное, и в глазах ожидание счастья.
«Настя, — безошибочно понял Гуров. — Так Аджей может говорить только с Настей. Не укрылось от тебя, нелюдь, что кумир переменился. Что в душе его появился свет, который он не захочет с тобой делить».
Сизый, завершив круг вокруг стола, подошел к Гурову и откашлялся:
— Кхм, кхм. Эффектно, ничего не скажешь. Работа чистая. Кадры красивые. Но ничего, кроме… Э, одиночества…
— Одиночества и мертвой птицы, — вставил Гуров.
— Одиночества и мертвой птицы, — согласился Витя, но продолжил, — мы не видели. За это не сажают, полковник. Видали мы и более странные увлечения. Если все это доказательства того, что Толик маньяк, то добрую половину фанатов Полонского можно сажать вместе с ним. Инструментов для ремонта или хотя бы перчаток в песке мы не видели.
— Так мы и не обыскивали квартиру, а для поверхностного осмотра увидели немало, согласись. Пойдем дальше.
Виктор обреченно вздохнул и взглянул на часы.
— Десять минут, Лев. Мы находимся здесь десять минут и уходим. Время пошло.
Дверь, ведущая в спальню, претерпела те же усовершенствования, что и вход в зал. Было темно, в дневном свете и виде из окна Милованов явно не нуждался. Зато стало понятно, почему так просто он согласился иметь в качестве рабочего места темную подсобку на цокольном этаже. Под потолком вспыхнула такая же голая лампочка на проводе, какая встретила их в первой комнате, лишь светила она тускло-желтым. Спальня одинокого чудака выглядела девственно и жалко. Узкая, аккуратно застеленная постель с подушкой, стоящей уголком, ни единой складки. Окна в несколько слоев заклеены обычными газетами. В шкафу вещи, на тумбочке стакан с водой. Эта комната могла бы принадлежать старику, навеки напуганному или возненавидевшему мир за стенами своего жилища. Лишь на столе, похожем на все столы, что покупали в девяностые годы в каждый дом — школьный, с выдвижными ящиками — обнаружилось нечто интересное. Столешница оказалась застелена бумагой, на ней же стояли банки и бутылки с водоэмульсионной краской. Нашлась также пластиковая бутыль с широким горлышком. Виктор наклонился и прочел вслух:
— Белила цинковые. Все газеты в краске, как и все кисти. Интересно, чего он тут рисовал и почему мы плодов этого труда не видим. Еще одного портрета Полонского, белым по белому, я не переживу.
Портрета, как и чего угодно, выкрашенного в белый цвет, в спальне не нашлось.
Зато в ванной комнате вместо собственно ванны обнаружился настоящий склад.
— Давай, Витя, — мягко обратился Гуров к своему спутнику. — Скажи мне, для какого хобби ему понадобилось столько цемента, песка, мастерков и шпателей. Даже кирка и стремянка в наличии. Ладно, допустим, он ограбил строительный магазин. Зачем?
— Зря ехидничаешь, ты сам говорил, он реставратор, — безмятежно парировал Сизый. — По каким причинам человек так жаждет одобрения былого знакомого, не нам с тобой судить. Ищет он для него стены, порадовать хочет. Это для психолога вопросы, а не для следователя. К тому же у него ванна, вода и слив вынесены видел куда? С таким ремонтом без материалов и инструмента не обойтись. Людей он недолюбливает, так что, думаю, все делал сам.
Сизый демонстративно поглядел на часы. Гуров поднял руки в мирном жесте и согласно, но настойчиво произнес:
— Кладовка осталась. Я видел дверцу, когда мы входили. Я могу сам посмотреть, ты тут еще поснимай, если не хочешь любопытствовать.
В кладовке, кроме тараканов, коробок со старьем и зимних вещей, свисающих с деревянной шпалеры, смотреть было не на что. Они собрались уходить, когда Гуров, переступая, чтобы не раздавить особо шустрого рыжего соседа Анатолия, заметил под досками пола, на бетонной плите, перо. Они даже не входили, боясь повредить что-нибудь в ветхом равновесии чужого жилья. Может, внутри, чтобы не проломить пол, и стоять-то нужно на строго определенных досках. Гуров попросил лейтенанта отойти, сам присел на пороге. Достал мобильный, посветил в пространство между досок фонариком. Маленькое белое перышко выглядело на редкость плотным, будто отлитым из гипса.
— Или ты окрашенное… — не заметив, что произнес это вслух, выдохнул Гуров.
— Чего там?
— Там ничего, — отвечая Вите, полковник поднялся на ноги, критично осмотрел свисавшую с утлых вешалок одежду. — Но откуда-то это ничего там взялось. Хочу посмотреть.
Протянул руки и решительно раздвинул завесу из старых шуб и битых молью пальто в стороны.
Гуров отступил в коридор.
Сизый медленно опустил руку с мобильным, забыв сфотографировать увиденное.
На выбеленной стене висело фото Полонского. Красивое лицо в натуральную величину располагалось как раз на уровне глаз, Гуров точно помнил, что ни задирать голову, чтобы говорить с Аджеем, ни опускать, ему не приходилось. Помнил об этом и Милованов. Под фотографией располагалась также приклеенная намертво футболка, белая, с V-образным вырезом и красноватыми засохшими пятнышками на груди. Прочее же пространство на стене было так же белым, но объемным, будто штукатурка под известкой пошла рябью, как водная гладь под сильным ветром.
— А это… Что?
— Это крылья, — беспощадно припечатал Витя. Он вспомнил о камере, сделал пару снимков, увеличил и смотрел теперь в экран телефона. — Десятки крыльев. Если я верно понимаю, разных птиц. Предпочтительно голуби, но также есть вороны и вон те, маленькие, наверное воробьи. Крылышки были высушены химическим способом, потому что вони нет, выкрашены в белый цвет. И приклеены к стене с помощью, например, клеевого пистолета. Пошли отсюда, пожалуйста, Лев. Меня сейчас стошнит.
На улице они долго шагали тенистыми дворами. Хотелось молчать и дышать. Полной грудью, глубоко, чтобы выветрить из легких спертый запах чужого безумия. Погожий летний денек померк, утратив свои краски. Было до изумления странно знать, что в городе, где родители выпускают на улицу детей без присмотра и где с каждого рекламного щита светлый ангел, улыбаясь, напоминает о том, что нужно быть добрее, возможно такое. Гуров спросил, не хочет ли Виктор перекусить, и тот отказался. Тогда и стало понятно, что потрясение от увиденного действительно глубоко.
— А что там на груди у него было?
— Кетчуп,