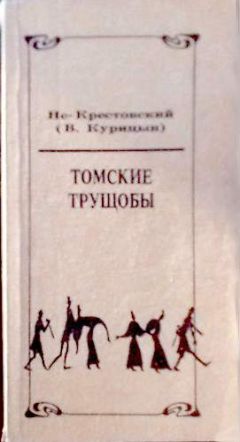Крупные частые слезы неудержимо потекли из глаз. В этот момент он был действительно жалок.
Махаладзе, тоже побледневший, но наружно спокойный, молча выслушал приговор и презрительно покосился на слезы Кочерова.
— Все теперь кончено! Прощай, Катя! — с глубоким вздохом прошептал он, еле находя в себе силы следовать за конвойным.
Машинально, точно автомат, шагал он по спящему городу. Тесная стена солдат окружала его и Махаладзе. Конвойные, утомленные долгим ожиданием в стенах суда голодные и озлобленные, торопливо шагали, побуждая к тому же и арестованных. На углу какого-то переулка им встретился одинокий ночной извозчик. Он не успел свернуть в сторону и конвой осыпал его градом злобной брани.
— Разинул рот-то, черт старый! — сердито крикнул старший из конвоиров. — Прикладом бы тебя! Эй, Сидоров, сомкни цепь! Шевелите ногами, что ли.
Последнее восклицание относилось к арестантам. Кочеров даже не расслышал его, а возмущенный Махаладзе ответил солдату:
— Ни к месту нам торопиться, в могилу ведь идем!
— Но-но, поговори еще! — смутился конвоир.
Зимний морозный день близился к концу. Глухо и пустынно в тюремных коридорах после вечерней проверки.
Тюрьма, окутанная сизыми сумерками быстро наступающего вечера, хранит зловещее молчание.
Скучно и холодно одиноким часовым, мерзнущим на своих вышках, по углам тюрьмы. Сегодня они должны быть особенно бдительны. Каждый слабый шорох около тюремной ограды, каждая неясная тень на сумеречном фоне снежного поля, заставляет их вздрагивать и напрягать внимание.
— Поглядыва-ай! — то и дело раздается унылый крик часовых. В общих камерах тюрьмы сегодня против обыкновения тихо: нет ни брани, ни смеха… Точно что-то гнетущее и страшное придавило всех.
Роковое известие, тщательно сохраняемое тюремной администрацией втайне, облетело тюрьму.
Вместе с серыми тенями вечера, в душные полутемные камеры незаметно вполз холодный призрак смерти.
— Завтра, на рассвете… — пронесся по тюрьме пугливый шепот.
Дежурный надзиратель, отставной унтер-офицер, с тщательно выбритым, сухим, бесстрастным лицом, приняв дежурство, молча и сосредоточенно обошел коридор. Шагал он осторожно на цыпочках, как в церкви, сердито шевелил нафабренными усами, и, то и дело поправлял перевязь шашки, точно узкий ремень давил ему плечо.
Посмотрев в «глазок» общей камеры, надзиратель покачал головой.
— Притихла «кобылка». Знают, должно быть… — подумал он, отходя от двери.
В общей между тем шли сдержанные разговоры полушепотом, так говорят в домах, где есть покойники.
— Кто их только вешать будет. Неужто из арестантов кто? — негодующе шептал своему соседу по нарам молодой парень с более бледным испитым лицом.
Старый бывалый арестант затянулся махоркой, сплюнул и медленно ответил:
— Бывают такие суки… При мне в харьковском централе троих повешали. Свой же уголовный вешал. Из хохлов был такой мозглявый мужичонка.
— Ах, он, в замок, в веру… — не выдержал молодой парень.
— Опосля уж дознались мы, — равнодушно продолжал рассказчик, подпирая голову рукой и сосредоточенно выпуская клубы дыма. — Пришили. На том же кругу темную дали.
— Так ему, собаке, и надо!
— А вот, когда я в Одессе содержался, — вмешался третий собеседник, так у нас был один… зазнамый палач. Так в отдельной камере сидел… Ежели на прогулку, так и то отдельно выпускали. Идет, бывало, а два «масаяки» (солдаты), сзади!
— Иначе нельзя — пришьют в одночасье!
— А что, дядя, больно знать смерть тяжела-то, ежели вешают? — спросил после некоторого молчания молодой арестант.
Сосед неодобрительно посмотрел на него, покачал головой и потушил папиросу.
— А вот заслужи, дурень… Тогда узнаешь!
— Сказано, братцы мои, — веревка крепка и смерть легка! — отозвался кто-то из арестантов.
Тишина тюремного коридора была нарушена шагами…