«Вот тебе сценарий», — повернулся к Максиму потрясенный Вадим. Жерар недружелюбно следил за разворачивающейся сценой, Этьен не выдавал своих эмоций, если они у него и были.
— Боже мой, боже мой, и все это время я даже подумать не могла…
— Я обещала матери не говорить…
— Ты совсем на папу не похожа…
— Ты тоже.
— Теперь я понимаю, почему он так тебя опекал…
— Ты меня упрекаешь?
— Нет, что ты!
— Признайся, ты меня недолюбливала? Женщины возбужденно разговаривали, не замечая присутствующих, предоставив им права зрителей. Максим не был уверен, что желанных. Надо было бы уйти, оставив сестер наедине.
— Если честно, да… я не понимала, что вас связывает…
— А я понимала, что ты не понимаешь, но я ничего тебе не могла объяснить…
— Почему ты решила вдруг сейчас сказать?
— Ведь папа умер…
— Как ты не понимаешь, Соня, — раздался неожиданно напористый голос Жерара. — Ведь теперь она тоже наследница!
Соня недоуменно повернулась в сторону Карлсона. Мадлен поискала глазами источник произнесенных слов, нашла, холодно окинула взглядом с ног до головы и вновь обратилась к Соне, не удостоив Жерара ответом.
— Теперь скрывать нет смысла. Полиции все равно это станет известно. А наследство мне не нужно. — Мадлен развернулась в сторону присутствующих:
— Я от него отказываюсь.
Вот те на! Максим подумал, что следовало бы звякнуть Реми.
— Чтобы от него отказываться, нужно на него еще право иметь, — так же напористо произнес Жерар, будто речь шла о его собственном наследстве.
— Это кто? — спросила Мадлен у Сони.
— Ох, извини, я тебе своих гостей не представила: это Жерар, мой друг…
— Это он на правах друга твои интересы защищает? Или у него свои интересы есть?
Соня улыбнулась, словно Мадлен пошутила. «Вот-вот, — подумал Максим, — этот же вопрос себе задаю я…»
— Это его сын Этьен, тоже наш друг. Ага, значит Этьен — это наш друг, а Жерар — это мой. Занятно.
— Это Максим Дорин, кинорежиссер из России, лауреат Каннского…
— Знаю, — кивнула Мадлен. — Племянник. Тоже родственник. Ну, здравствуй тогда.
Она поднялась и расцеловалась с Максимом четыре раза. От нее пахло какими-то потрясающими духами.
— Как я понимаю, ты своего столика лишился? — обратилась Мадлен к Максиму. — Ну, Соня тебе его, наверное, отдаст? Он ведь по праву принадлежит тебе.
При этих словах Жерар открыл было рот, но тут же и закрыл его, явно проглотив какое-то восклицание, Этьен с удивлением вскинул черные глаза.
Соня улыбнулась и легонько пожала плечами, словно хотела сказать: все возможно…
— Ну а с Вадимом вы знакомы… — продолжала она представлять.
— Знакомы. — Мадлен с Некоторой прохладцей пожала его руку.
Выполнив долг вежливости, сестры тут же забыли обо всех, вновь погрузившись в свой диалог.
— Удивительно, что папа удержался и не рассказал этот секрет! Как он, с его характером, сумел промолчать столько лет? — Соня не отрывала глаз от Мадлен, изучая ее с некоторой долей восхищения.
— Это было слишком серьезно, чтобы болтать об этом. Дело не только в моей матери. Папа не мог нанести такой удар Ксавье — ведь он был когда-то его лучшим другом. Папа чувствовал себя перед ним виноватым за меня…
— Да, конечно, папа… я понимаю, он человек… он был очень щепетильным…
Соня снова расплакалась. Мадлен гладила ее по волосам, как маленькую, но у нее у самой покраснел нос.
«Надо мне уходить. Реми позвонить, рассказать ему о Мадлен и эту мысль насчет Жерара. В ней что-то есть».
— Мы тут лишние, — шепнул он Вадиму и поднялся. Вадим поднялся за ним.
— Не будем вам мешать, вам есть о чем поговорить. Соня благодарно глянула на него и перевела глаза на Жерара. Тот понял намек и тоже встал, нехотя. За ним потянулся Этьен. Все наскоро попрощались и оставили сестер одних.
— Мы с тобой поработаем завтра, если хочешь, — предложил Вадим, высаживая Максима у подъезда.
— Давай, — обрадовался Максим. Следовало занять голову чем-нибудь более плодотворным, чем несостоявшийся роман с Соней.
Максим не жалел, что съездил к Соне. Между ними ничего не произошло личного, но он уже, кажется, с этим смирился и больше ничего не ждал. Максим не умел желать недостижимого, и постепенно жажда обладания, желание сделать Соню своей потихоньку стали утихать, как боль. Она ему нравилась по-прежнему, и его все еще тянуло к ней, и он бы даже назвал это словом любовь, но любовь эта стала другой: магия отпустила его, приворотное зелье больше не действовало.
Глаза ее больше не были ни медовыми, ни янтарными, а просто карими, красивыми карими глазами… Впрочем, от этого было немного грустно.
Реми откликнулся на телефонный звонок сразу, будто только и ждал его.
— У меня есть мысль, — сообщил ему Максим. — А что, если это Жерар?
— Вы решили переквалифицироваться в детективы?
— А вы что-нибудь имеете против?
— Имею.
— Думаете, не получится?
— Боюсь конкуренции.
— Польщен. Так что насчет Жерара?
— Бросить подозрение на Пьера, убрать его таким образом и открыть себе подступы к Соне? Я о нем не раз думал, но мне в этой версии чего-то не хватает…
— Я вам сейчас добавлю информацию к размышлению.
Максим описал детективу сцену у Сони.
— Тем лучше, — подытожил Реми. — Мадлен отпадает.
— А Жерар?
— Это у вас давно такая манера — прижимать детективов к стенке?
— С детства. Мне еще мама говорила: как увидишь частного детектива — так его сразу к стенке и прижимай. Особенно если учесть, что у нас такого овоща, как частный детектив, сроду не водилось при советской власти.
— Я всегда говорил, что в социалистической системе много недостатков.
— Ну а Жерар?
— Я это обдумываю.
— У него была возможность снять кинжал и повесить на место, он знал о предстоящих съемках, он влюблен в Соню…
— Я еще не закончил обдумывать.
— Ладно, — сдался Максим, — чего у вас новенького?
— Не много, но есть, — охотно сменил тему Реми. — Пьер действительно был в клубе в четверг, когда вы видели человека в саду. Но никто не может утверждать, что он оттуда не отлучался…У них там разные залы, ресторан, теннис, бридж, специально за ним никто не следил, так что, сами понимаете, восстановить поминутно его присутствие в тот вечер невозможно.
— Тем не менее, как я понимаю, вы по-прежнему уверены, несмотря ни на что, что это не он?
— Я думаю, что это не он.
— Ксавье?
— Откровенно говоря — вряд ли.
— Это что-то новенькое! Ведь вы меня пытались уверить, что подозреваете его!
— Не то чтобы очень.
— А чего вы тогда мне лапшу на уши вешали? Еще только вчера вы мне доказывали…
— Так просто. Вроде игры. Было интересно слушать ваши соображения.
— Миленькие у вас игры. Так почему это вдруг не Ксавье? Из-за алиби?
— Нет. То есть да, разумеется, это добавляет уверенности, но…
Понимаете, Максим, все дело в том, как считать. Если считать, что это разные дела — убийство, наезды на вас, ночные визиты, телефонные звонки, попытка кражи столика, — то можно вполне подозревать Ксавье. Исходя из того, что мы о нем знаем, — он подходящая фигура. Если же исходить из предположения, что здесь один и тот же автор, то Ксавье сразу отпадает по простой причине: его не интересует столик, он не смог бы им воспользоваться никоим образом.
Следовательно, ни попытка кражи, ни попытки убрать вас — все это ему ни к чему.
— А Пьера интересует столик, но, по-вашему, это не он «автор».
— По-моему, не он.
— Следовательно, кто-то третий.
— Кто-то третий.
— Так, может, я прав насчет Жерара?
— Я это обдумываю.
— Ладно, когда закончите обдумывать — держите меня в курсе.
— Договорились.
Максим соорудил себе чай с бутербродом и притащил на кухню «Воспоминания…», которые устроил перед собой. Открыв наугад книгу, он, жуя, пробегал глазами страницы, осторожно переворачивая пожелтевшую бумагу левой, чистой рукой, тогда как правая была занята бутербродом. Книга была написана языком суховатым, но даже при первом, поверхностном прочтении стало ясно, что она ему очень пригодится в работе — в ней были факты, маленькие конкретные факты человеческих биографий. Он делал пометки и закладки и увлекся настолько, что когда его глаза пробежали фамилию Дорин, он не сразу понял, о ком идет речь. Он перечитал. Эта фамилия отозвалась спазмом в желудке.
Он отложил недоеденный бутерброд, вымыл руки и, бережно взяв книгу к себе на колени, впился глазами в начало страницы.
"Жизнь на чужбине предстояла нелегкая — скупые сведения, которые просачивались из Франции, нагнетали еще большую тоску и страх перед эмиграцией.
Все, что было накоплено из поколения в поколение, все ценности приходилось оставлять в России. В то время практически ничего нельзя было продать.
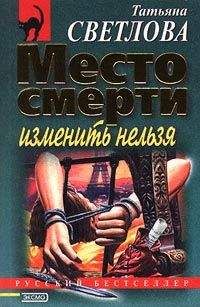
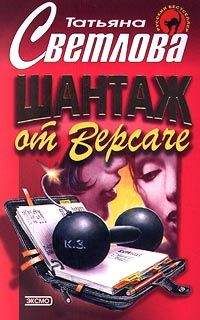

![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](https://cdn.my-library.info/books/60019/60019.jpg)

