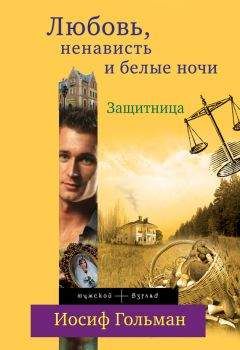Ознакомительная версия.
Как оказалось, недолгой.
Уже через пять минут вольного полета показалось новое столпотворение. Это было слишком: время — «непробочное». Но что было, то было. Железные ряды авто, перистальтически подергиваясь, подтягивались к светофору, а вдоль машин прохаживались и прокатывались на колясках инвалиды — новая примета столичных пробок. Все они были в камуфляже, выставляя на обозрение обрубки ног и рук.
Кто поскромнее, просто двигались вдоль машин. Кто поактивнее — стучали в окна и требовали жалости.
Ефим никогда не подавал на перекрестках. Во-первых, он имел информацию о структуре этого бизнеса. А во-вторых, в пробках поддатые инвалиды легко могли оказаться под колесом, и Береславский не хотел даже косвенно способствовать этому.
Он демонстративно отвернулся от очередного, идущего обходом, страдальца. Тот прошел мимо «сотки» и остановился у впереди стоящего «Лэндкрузера». Владельцы джипов, по наблюдениям Ефима, в среднем были более сентиментальны. Вот и здесь окно открылось, и рука, щедро украшенная татуировкой, протянула инвалиду несколько бумажек. Тот торопливо их принял, и, не благодаря, неловко развернулся в сторону Ефима.
На мгновение их глаза встретились. Узнавание и реакция случились одновременно. Поток двинулся, Береславский «протянул» машину к инвалиду.
Центральный замок щелчком открыл заднюю дверь, стекло на своей двери Ефим опустил чуть раньше.
— Садись, Атаман!
— Спасибо, не надо, — угрюмо ответил инвалид.
— Садись, засранец! — рявкнул Ефим.
Инвалид вздрогнул и, неловко подгибая протезную ногу, полез в салон. Сзади гудели вынужденно остановившиеся машины, но Ефим никогда не обращал внимания на подобные мелочи. Через мгновение «Ауди» тронулась, и заторможенный Ефимом железный поток вновь пришел в движение.
25 лет назад
Береславский попал в этот лагерь по старым горкомовским завязкам. В 17 лет работать вожатым было еще не положено, тем более с таким контингентом. Однако, как говорит известная поговорка, если нельзя, но очень хочется, то можно. Ефим эту поговорку модернизировал, изменив слово «можно» на «нужно».
Вот и сейчас, поулыбавшись Лене, старой, лет двадцати семи, мымре, знакомой ему по пионервожатским походам (опять же Ефим пионервожатым никогда не был, но ему нравилась девочка Алла из этой команды, и уже давно никто не задавался вопросом, почему он участвует во всех пионервожатских тусовках), пошептавшись с Игорем, выдвинувшемся в горком из комитета комсомола их школы, и посоветовавшись со Львом Борисовичем, замдекана института, куда его только-только приняли, Ефим оказался на пункте сбора спецпионерлагеря «Радуга».
Пионервожатый 1-го отряда Ефим Береславский слабо представлял себе свои будущие обязанности, но кое-что знал точно. Ему должны были заплатить 37 руб. 50 коп. за отработанный месяц плюс бесплатное питание. Он получал трудовую книжку, и с этого момента ему шел трудовой стаж. И наконец, он избавлялся от институтской сельхозповинности: Лев Борисович без радости, но с уважением прочитал горкомовское предписание о направлении Ефима на работу в лагерь по воспитанию трудных подростков.
— Ты там поаккуратнее, — сказал Лев Борисович и пожал ему на прощание руку.
А еще Ефим жаждал романтики. Для своих лет он хорошо знал уголовный мир и откровенно его боялся. Но подлость его характера как раз в том и заключалась, что если Ефим чего боялся, то туда и лез.
В более зрелом возрасте Береславский увлекся психологией и узнал о существовании людей, психологически «запрограммированных» на самоуничтожение. Но и это все-таки было не о нем, потому что, попав в проблему, Ефим проявлял чудеса изворотливости, чтобы из нее без потерь выйти. И чтобы через некоторое время снова найти себе «приключения»…
36 лет назад
Мама категорически запрещала Ефиму заходить за сараи.
«Двор у нас большой», — говорила она, и это было правдой. Домики по улице Чапаева были двухэтажные, но маленькими они тогда не казались. Во дворе было даже место для линейки: летом по утрам местный энтузиаст поднимал флаг на самодельном флагштоке и делал с детьми зарядку. Здесь же пацаны гоняли в футбол, а девчонки, в теньке, на скамеечках, установленных под большими, разросшимися тополями, нянчили кукол, большей частью тряпичных, самодельных.
Двор с трех сторон ограничивался тремя двухподъездными домами, а с четвертой стороны — вышеупомянутыми сараями. В них жильцы хранили дрова: горячую воду получали после дровяной колонки в ванной. У некоторых в сараях была живность: утром там орали петухи, у многих были кролики, а у Калмычихи даже жила настоящая свинья.
Отец Витьки Светлова держал в сарае мотоцикл, поэтому около него на мальчишечий вкус всегда пахло особенно хорошо. Но дело не в том, что хранилось в сараях. А в том, что сараи были чертой, отделявшей мир Ефима от неведомого. И в том, чужом мире творились непонятные, а иногда страшные вещи. Именно оттуда пришел дворовой силач Шура со страшным, окровавленным лицом и с большой дырой вместо двух передних зубов. И именно в ту сторону кивали местные бабки, если утром у какого-нибудь сарая оказывался сбитым замок, а кроликов становилось намного меньше (кстати, кролики никогда не исчезали поголовно: беспредел в том мире не поощрялся). «Тюремщики чертовы», — щерили бабки беззубые рты. «Что ж поделать, сто первый километр…» — печально вздыхала мама.
Правда, когда Ефим подрос, он понял, что особой разницы между жильцами общаги для отбывших заключение и жильцами их собственного дома не было. Просто первые, если вновь не попадали «на зону» и не умирали от водки или поножовщины, женились, растили детей, оканчивали вечерние школы. Или даже как дядя Володя Казак — институт. («Это после „пятнашки“-то, от звонка до звонка!» — восторгались бабки.) И переселялись в другие дома, например — в Ефимов.
«Сынок, никогда не ходи за сараи», — постоянно твердила мама. И, как минимум, половину запланированной цели достигла. Маленький Береславский боялся «засарайного» мира.
Вторая половина достигнутого никак не соответствовала маминым целям. Ефим твердо знал, что, как ни страшно, а за сараи придется идти.
Как правило, Ефимов героизм был связан с девчонками. Он всегда любил приврать и прихвастнуть, а, сказавши "а", приходилось говорить "б". Зато и авторитет у него среди сверстников (и даже гораздо более старших!) был немалым.
Вот и в тот раз все было классно. Он что-то рассказывал, пацаны слушали во весь рот. Девчонки делали вид, что им без разницы, но слушали тоже. И в этот момент во двор въехал мотоцикл Светловых. На весь двор мотоцикл был один, но не это было важно. За рулем сидел Витька! Без бати!
Ефим мгновенно был забыт напрочь, а он еще не привык к такому людскому коварству. Он даже испытал некоторое злорадство, когда во двор вбежал Витькин отец с очень красным лицом и горящими глазами. Витька бежать не пытался, только сильно орал, пока его волокли на второй этаж. А взрослые, смеясь, обсуждали, как подлец Витька угнал мотоцикл у собственного батяни, пока тот разговлялся с получки пивком «с прицепом».
Пацаны упивались Витькиным подвигом, полностью забыв про Ефима. А ему было совсем погано: и слава оказалась летучей, и беде дружка порадовался. Ефим думал другими словами, но смысл передан верно.
Вот тогда Ефим и сказал:
— Пацаны, айда за сараи!
Сразу установилась тишина. Те, кто потише, отошли от греха подальше. Кто посмелее, популярно объяснили Ефиму, в чем он не прав. И даже здоровенный третьеклассник Тимка, далеко не самый трусливый во дворе, покрутил пальцем у виска.
— Тогда я пойду один, — сказал Ефим.
Безусловно, это был успех. Все смотрели только на него: мальчики — с восхищением, девочки — с печальной нежностью. В груди сладко защемило. И он пошел за сараи.
Толпа проводила его до роковой черты. Он переступил ее… и ничего не испытал. За сараями была еще одна линия сараев. А за ними — третья.
За третьими сараями был ИХ двор. Ефим прошел туда. Пейзаж действительно отличался от привычного. Намного больше мата, намного меньше женщин. Обнаженные по пояс мужики играли в «секу». Ефим знал эту игру, он вообще мог играть в карты с трех лет. Как и читать. Многому можно научиться быстро, если родители весь день на работе, а у пацана — любознательный и беспокойный нрав.
По спинам, рукам и животам игравших можно было проследить весь их жизненный путь. Кстати, маленький Береславский и этим искусством владел сносно.
Прямо на песке спал побитый и полураздетый парень. В их дворе такого бы не допустили: сердобольные соседки уже позвали бы родных.
К Ефиму подвалили два пацана, один — его возраста, другой, большой, уже давно школьник, если, конечно, он ходил в школу. Матроска Ефима на фоне их обносков выглядела вызывающе. В руке старшего была горящая самокрутка.
Ознакомительная версия.