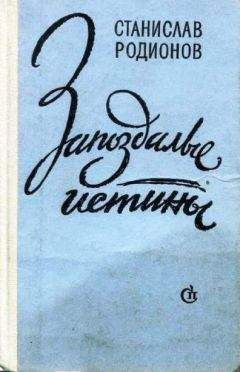— Хозяйствую… Мне уж за шестьдесят.
— А кем работали?
— Аппаратчицей.
— Семья есть?
— Муж. Дети отдельно, в городе.
— А муж работает?
— Механиком, на лесопилке.
Тёмный платок обтягивал голову и щёки, как высушивал их. Бурая кожа, привыкшая к ветрам и слезам, блестела от солнца — ещё от того, от летнего. Усталые глаза, привыкшие к ветрам и слезам, ждали; и Рябинин не сомневался, что эти глаза, уставшие от неприятностей, и сейчас ждут их.
— Что у вас случилось, Зинаида Васильевна? — почти ласково спросил Рябинин.
— А что? Ничего.
И её лицо, привыкшее к правде, испугалось.
— Что-то произошло, — утвердил он тихонько.
— Почём вы знаете?
— Вижу.
— Так ведь у каждой бабы что-либо случается…
— У вас не что-либо. Корову-то почему не доите?
— Уже подоила, — вздохнула она.
И Рябинин подумал, что вот говори эта женщина неправду — и он не сможет ни укорить её, ни потребовать; не сможет, потому что необъяснимая жалость присосалась к его груди; потому что сам в жизни поработал и знал крутость физического труда, тяжелее которого ничего нет.
— Правду не скажете, Зинаида Васильевна? — просто спросил он.
— Врать-то грех…
— А вы верующая?
— Верующая не верующая, а иконку имею.
— Тогда врать грех, — улыбнулся он.
Она ещё с минуту посомневалась, и это сомнение легло на её лицо ясно, как у ребёнка.
— Не рой мужу яму, попадёшь туда вместе с ним…
— Зинаида Васильевна, вы сейчас не думайте о последствиях, а скажите правду.
— Убийство — большой грех…
— Большой, — убеждённо согласился он.
И женщина заплакала, окончательно поняв, что грех это большой. Рябинин ждал конца нужных ей теперь слёз, не перебивая их и не торопя. Она подняла отяжелевшее от горя лицо и сказала, как прыгнула в омут:
— Пишите. Аню Слежевскую мой пропойца убил.
— Ваш муж?
— Да, Пётр Петрович Усолкин.
— Откуда вы знаете?
— Сам открылся. Куликуй, говорит, Зина, теперь в одиночестве.
— А где он сейчас?
— В бегах.
Рябинин бросил приготовленный бланк протокола и ринулся к двери — инспектора там ждали своего часа. Следователь всё им выложил в двух словах, которые они дослушивали уже на ходу. По клубу, как по пустотной пещере, далеко рассыпался звук шагов да торопливые команды Петельникова.
Рябинин вернулся к протоколу. Зинаида Васильевна тихо плакала.
— Неправильно это… — всхлипнула она.
— Что неправильно?
— Ад и рай задуманы. Проще надо бы и справедливее. Честно прожил жизнь? Тогда живи себе дольше, заслужил. Подло прожил жизнь? Тогда помри, опять-таки заслужил. Не так?
— Так, — искренне согласился Рябинин.
Видимо, этот пьяница ждать милиции не станет. Какой-нибудь поезд уже несёт его по свободным просторам в такой уголок, где на первое время можно затеряться.
Обедать не хотелось. Рябинин вышел на воздух бездумно и побрёл по улице куда глаза глядят. Но какая-то цепочка, скорее всего логико-физиологическая, уже вела проторённым путём: есть не хотелось, была жажда, чаю бы, хорошего чаю…
Рябинин откинул свободную калитку и посмотрел в глубину сада. Защищённая от посторонних глаз теперь лишь сеточкой прутьев, избёнка желтела близко, вроде бы сразу за штакетником. Ему показалось, что ей чего-то не хватает. Крыльца, петуха на крыше, резных наличников?.. Ножек, ей не хватало курьих ножек…
Теперь Рябинин постучался. За некрашеной толстодосочной дверью тоже стукнуло. Рябинин счёл это ответом и вошёл.
Слежевский торопливо отодвинул скамью от стены. Столешница была присыпана сенцом. Стал крепче запах трав, словно их разворошили.
— Мяту вешал, — объяснил Слежевский. — Анна собирала…
— Вам надо как-то развеяться.
— Надо бы, — согласился Слежевский.
— Чуточку оптимизма, что ли…
Олег Семёнович усмехнулся одними усиками:
— Я никогда не был оптимистом.
— Наверное, зря.
— Знаете, на чём основан человеческий оптимизм? На легкомыслии. Жить так, будто болезней и смертей нет. Мол, чёрт с ними.
— А может, и верно — чёрт с ними? — почти радостно предложил Рябинин.
— Я жил не так…
И двинул чайник с кирпичного бока плиты на раскалённую середину. Для Рябинина это послужило сигналом — он снял пальто и буднично подсел к столу.
— А как вы жили?
— Тревожно, вроде одичавшего кота.
— Почему же?
— Боялся сглазить. Когда мне бывало очень хорошо… Вот только подумаю: господи, как хорошо! И тут же испугаюсь. Чур меня, чур!
Рябинин с ещё неосознанным удивлением посмотрел в лицо хозяина избушки, стараясь в осеннем свете поймать блеск его чуть выпуклых глаз. Этот ли человек два дня подряд рассказывал о клокочущем любовном счастье? Но Слежевский смотрел мимо — он прислушивался к гудению чайника.
Рябинин ведал беспричинную тревогу счастливых, напоминавшую о краткости всего сущего, о роке, о случайности… Но он ещё не знал таких людей, которые бы вняли этим намёкам, ибо счастье потому и счастье, что оно сильнее всех невзгод; в конце концов, счастье — это то хорошее, в котором захлебнулось всё плохое. А Слежевский жил вот тревожно. Как одичалый кот.
— Но у вас же была любовь, — напомнил Рябинин.
— Любовь всегда идёт рядом с болью.
— Любовь идёт рядом со счастьем.
— Приведу элементарный пример. Я чему-то радуюсь. А любимого человека возле меня нет, он не радуется. Поэтому я огорчаюсь. И таких огорчений на каждом шагу. То несовпадение мыслей, то несовпадение настроений, то несовпадение желаний… Тогда приходит обида, ревность, подозрения.
— Это уже не любовь.
— Любовь. Влюблённые ведь ранимы. И вот вам парадокс — любовь съедает радость жизни. Тогда зачем она?
— Вы говорите о молодости?
— Я говорю вообще, — уклонился Слежевский.
— В молодости всё преувеличивается. Мелкое огорчение, да на фоне любви, кажется болью.
Слежевский встал, открыл печку и подкинул четыре берёзовых полешка. Пряный дымок на минутку одолел все запахи, — Рябинин втянул его жадно, как городской человек, тоскующий по далёкому, но ещё не забытому.
— Вы говорили, что любовь — это доброта. Я тут думал… Допустим. Но ведь доброта зловредна, а?
— Как зловредна? — удивился Рябинин.
— Неразумная любовь-доброта портит человека.
— Зачем же неразумная?
— А где вы встречались с любовью разумной? Она потому и любовь, что неразумна. Вы замечали, какие хорошие дети у бесстрастных отцов? Замечали, какие обормотистые детки у любящих, так сказать, души не чаявших?
— Ну уж!
— Да я знаю семью… Работящий, добрейший и любящий мужик. А результат? Жена ни во что его не ставит. Дочь выросла бесхарактерной и болтается по мужьям. Собака-овчарка неспособна охранять — боится громкого окрика.
Рябинин не мог отвечать, не подумав. Но думать не было времени — ему казалось, что смысл сегодняшнего разговора заключён в скорости; нельзя было упускать ту силу, с которой заговорил Слежевский. Рябинин не знал, зачем ему понадобится эта уловленная сила.
— По-вашему, любовь портит человека?
— Именно, — даже обрадовался Олег Семёнович точному понимаю его мысли.
Но обрадовался и Рябинин, потому что об этом было думано и даже где-то записано. Что-то туманное… Любимый должен понимать величие любившего…
— А почему? — спросил Рябинин тоже с появившейся силой.
— Скажите, любовь двух людей одинакова?
— Одинакового ничего нет.
— Значит, кто-то любит сильней. Я уж не говорю, когда любит только один. Тогда у второго, который любит слабо или вообще не любит, прогрызается самомнение, спесь, эгоизм… И любовь обернулась злом.
— Но как, как?
— Тот, кого любят, подчиняет себе того, кто любит. Что, не верно?
Рябинин вздохнул облегчённо: неверная мысль, которую он не мог побороть, входила в него многодневной заботой.
— Не верно, Олег Семёнович. Любовь может испортить только душу плохую или незрелую.
— Такие души мы и любим. Женские, детские…
Они разом повернулись к печке — обиженный чайник бушевал.
Слежевский переставил его на кирпичи, но он ещё долго урчал и постанывал. Дух заварки, джинном выскочивший из чайника, мешался с мятой. Травяное сенцо было сметено со стола, появилась сахарница и чайная посуда.
У Рябинина зрел вопрос. И когда чай раскалённо забродил в чашке и привнёс свой букет на очки, на лицо, на дрогнувшие от нетерпения губы, он спросил:
— А кто у вас любил и кто был любим?
— Я любил, — чуть повышенным голосом отозвался Слежевский, будто следователь мог не поверить.
Инспектора ринулись в город, перекрыли вокзалы, отыскали близких и дальних родственников, устроили засады дома и на работе… Усолкин исчез, как и положено убийце.