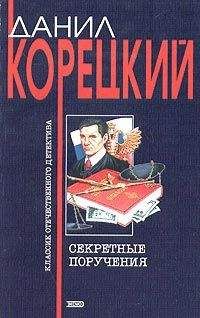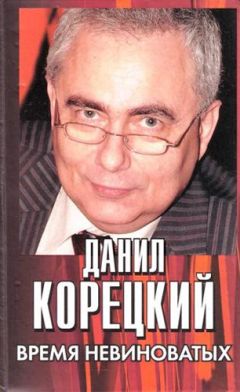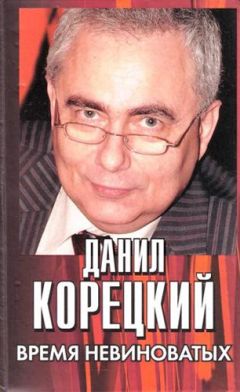— Где ты шлялся?
— Гулял. С девушками.
— С проститутками, — уточнила мать.
— Только не надо, ма.
— Но и на это не похоже. Ты бы приходил в помаде, духах. И расслабленным, умиротворенным. А ты всегда напряжен и задумчив. Где ты бываешь? Скажи мне наконец правду!
Денис закрылся в ванной, повесил полотенце на вешалку, погромче включил воду и закрыл сток. Он знал, что мать стережет его за дверью, она еще только начала расходиться.
* * *
— Итак… Патрик Зюскинд. Очень хорошо. Расскажите же мне о Патрике Зюскинде, Курлов.
Лидия Николаевна поставила билет на ребро и постучала им по столу. Она смотрела на Сергея так, будто у него пенис на лбу вырос. Нет, она бы скорее сказала:
«фаллос», с долгим протяжным "л" и круглым "о" — потому что на первом курсе Лидия Николаевна преподавала у них историю античной литературы, это ее конек.
Сафо, Анакреон, Аристофан, лиры, кифары, тенистые рощи Лесбоса.
— Зюскинд Патрик, — медленно произнес Сергей, — родился в бедной еврейской семье. Он написал «Контрабас».
Разбитые губы болели, каждое слово давалось с трудом. По разработанной Агеевым легенде он героически вступил в схватку с грабителями. Имелась и соответствующая справка.
— Прекрасно, Курлов. В бедной, как вы говорите, еврейской семье…
Продолжайте…
Лидия Николаевна любила истоптать безответного «простого» студента, но избегала ссориться с «детьми» — себе дороже. А Курлов явно не относился к «простым». Ему удалось поспать пять часов, но сон облегчения не принес. Хотелось холодного пива и пенталгина.
В билете было написано: «Творчество П. Зюскинда». О том, что его звали Патриком, Сергей узнал только что от самой Лидии Николаевны. Про «Контрабас» он слышал краем уха, его немцы ставили в университетском театрестудии, там играл полный рыжий хлопец, за спектакль он выпивал упаковку баночного пива — так по сценарию было. Все. Ничего больше про Зюскинда Сергей не знал и знать не хотел. Разве что только…
— Зюскинд очень любил пиво, — сказал Сергей.
И в упор посмотрел на Лидию Николаевну — впервые за это утро. Лидия Николаевна снова хотела что-то съязвить, но слова застряли у нее в горле. Левый глаз Курлова был красным, как редис, он почти скрывался под опухшим веком. Глаз загнанного зверя.
— Когда Зюскинд садился писать, он ставил на стол семисвечник, а рядом — большой бокал с пивом. Он был жгучий брюнет, — негромко, почти шепотом сымпровизировал Сергей.
Лидия Николаевна поняла.
— А Джон Апдайк? — так же негромко спросила она, выбирая из синей стопки его зачетную книжку.
— Апдайк был седой, — Сергей улыбнулся. Кожа на губах затрещала.
По движению полной руки Лидии Николаевны он без труда угадал: "зачт. ".
— Если бы это был допрос, а Зюскинд с Апдайком были вашими товарищами — я бы вас зауважала, Курлов, — сказала Лидия Николаевна, вручая Сергею зачетку.
— Спасибо, — сухо произнес Сергей и вышел из аудитории.
Шутка не показалась ему удачной. Может, эта мымра уже что-то знает? Может, все уже знают?
За дверью на него набросились Салманова, Щенько и Пшеничник — три такие здоровенные дурищи, невыспавшиеся, трясущиеся, как первокурсницы. Облепили, повисли: «Ну, как, Курлов, — сдал?.. Ой, да ты че?! Какой билет?.. А Лидия — она на нервах, да?»
На его разбитую рожу внимания не обращали, как будто это было в порядке вещей.
Сергей промычал что-то, стряхнул с себя цепкие девичьи руки и прошелся взад-вперед по коридору.
— Родика никто не видел? Он приходил?
Родика не было. На лестничной площадке сидела Светка Бернадская, подложив под обтянутый белыми джинсами зад стопку конспектов. Она курила тонкую сигаретку и смотрела в потолок.
— Родика Байдака видела? — спросил Сергей.
Светка неторопливо навела на него свои голубые прожекторы, уронила хоботок пепла между маленькими кожаными туфлями. И улыбнулась:
— Нет.
— Он в общагу вчера не заходил?
Про общагу можно было и не спрашивать, Светка Бернадская там не появляется — не ее ареал обитания; всю сессию, от первого до последнего звонка, она сидит в библиотеке, грызет гранит. Всерьез грызет, без всяких. Хотя и не говорит об этом никому, даже под пыткой не признается. Это для нее характерно, в этом вся Бернадская. Зато потом, когда Пшеничники и Салмановы мечут в коридорах икру, лихорадочно запихивают в лифчики шпаргалки и хватаются за голову: «Ой, девочки, забыла, в каком году у жены Фицджеральда был выкидыш?» — Светка демонстрирует полную безмятежность.
— Я вчера с подругой весь вечер пила кофе в «Космосе», — сказала она, растягивая слова.
Врет, конечно. Мамина дочка. Хочет впечатление произвести.
— Там аппарат три месяца уже как сломался, — буркнул Сергей и стал спускаться по лестнице. В другой бы раз он промолчал — обычные бабьи хитрости, что с нее возьмешь! — но сегодня настроение было не то.
— Эй, а Цигулева где? — крикнула Светка сверху. — У нее моя подшивка «Вог», она обещала принести!..
Голос у нее вдруг стал обиженным, почти злым. Не так давно, еще до осенней сессии, они со Светкой многими считались парой. Светка-энд-Сергей, Svetka'n'Sergey, устойчивое словосочетание. А потом все. Потом появилась Цигулева.
Сергей сделал вид, что не расслышал.
…Этажом ниже — мужской туалет, курилка. В распахнутом настежь окне торчали Зеньков и Чумаченко. За закрытой дверцей кабинки деловито шуршала бумага.
— Смотри, Серый, баба на втором этаже пол моет, в одних трусах, у нее сосок с полмизинца, мы тут чуть не это… — Чума показал свой кривой мозолистый мизинец, потом ткнул пальцем в окно в доме напротив.
— Я Родика ищу, — сказал Сергей. — Он еще не сдавался?
— Не-а… На кого это ты похож? А… вспомнил: мне дядька комикс привез, там мужик — оборотень. Так у него такая рожа была, когда он в волчину превращался.
Что это за бульдозер на тебя наехал, Серый?
— Отцепись. Упал, не видишь? Порезался во время бритья. Иди в жопу, короче.
Блин… И куда он запропастился?
Сергей врезал ногой по дверце кабинки.
— Эй, на борту — ты не Байдак случайно?
Щелкнула задвижка, дверца медленно отъехала в сторону. Верхом на унитазе сидел Коля Лукашко с раскрытым конспектом в руках.
— В телестудии твой Байдак. Квасит с Ашотом. И вали отсюда, хватит шуметь!
Курлов с силой захлопнул дверцу.
* * *
Под учебную телестудию отвели огромный, обшитый орешником и пенопластом кабинет на первом этаже. Здесь стояли три передвижные телекамеры, похожие на гиперболоиды инженера Гарина, стальная рощица софитов, монтажная установка, четыре монитора, шестнадцатиканальный микшерский пульт «Алесис» и мягкий уголок из черной кожи. Говорили, это Бутевич расстарался — бывший декан, завзятый партиец, любитель крымских вин и быстрой езды.
Смотрелась студия здорово, все так говорили. Образцовая студия. Из трех камер работала только одна, мониторы были на лампах-компактронах, которые перестали выпускать еще на заре перестройки, и когда очередная лампа перегорала, приходилось вручную менять электрод — если, конечно, было кому. Шикарный «Алесис» давно был пропит, проеден и протрахан, а на его месте стоял обычный советский «Лель», с которого сняли ручки и клавиши и переоборудовали в обеденный стол — поскольку ни на что другое он не годился. Находчивый Ашот Меликян, помощник декана, прилепил сюда фирменный логотип, срезанный с коробки от «Алесиса», а заодно и его инвентарный номер.
Исправно работал только мягкий уголок. Вернее — диван. Огромный и упругий, как батут, добротный бидермайерский диван, который уже сам по себе являлся сексаттракционом. Вверх-вниз, вверх-вниз, еще выше, еще, широкая устойчивая амплитуда, стыковка-расстыковка, салют, победа. А если под хорошую выпивку и закуску, если включить единственную рабочую камеру и вывести изображение на большой монитор — ну… нет слов. Это надо пережить.
Сергей постучался.
— Алло, есть кто живой?
Днем здесь иногда торчат первокурсники, пытаются лепить передачки, снимают интервью друг с другом, а потом дружно катаются со смеху. Но у первокурсников еще не выработалась привычка запирать за собой дверь. А сейчас дверь была заперта.
— Открывай, — Сергей ударил костяшками пальцев по косяку.
— Кто такой? — негромко спросили из-за двери.
— Мне Байдак нужен.
— Это ты. Серый?.. С-час.
Щелкнул замок, дерматин зашуршал по цементному полу. На пороге окосело улыбался Ашот Меликян, его строгая понтовая сорочка в узкую полоску была расстегнута, по волосатой груди стекал пот.
— Твою мать, — затарахтел Ашот, запирая за Сергеем дверь. — Кто стучится в дверь моя? Я говорю: Мишель Пфайфер, спорном? Родион говорит: ни фига, это Крутой Уокер. Спорнули на четыре порошка, открываю — а там Курлов, греб его мать, вот с такой рожей. Ты нам каждому по два порошка ставишь, Серый, мы на тебя спорнули, ты не оправдал, сам понимаешь… И кто тебе хлебальник своротил, а?