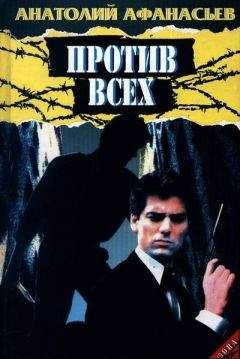Генрих Узимович брезгливо подставил щеки для непременных для россиян, в подражание чокнутому президенту, троекратных поцелуев. Он был несколько озадачен.
— Почему без предупреждения, герр Питер? Я получил факс. Груз из Мюнхена…
В последующие полчаса Иванюк нещадно разносил своих сотрудников, пытаясь выяснить, кто устроил нелепый розыгрыш. Вызывал в кабинет по одному, топал ногами, кричал, брызгал слюной, а некую пожилую даму оттаскал за космы, но толку не добился. Наблюдая за этим, явно устроенным для него лично, спектаклем, Генрих Узимович наливался тяжелой обидой. Немыслимо! Дикая страна! Ведь пришло кому-то в голову так гнусно подшутить над солидным человеком. Поймать бы мерзавца и вкатить ему десять кубиков первоклассного препарата СБ-618. Конечно, если только это действительно розыгрыш, если за этим не кроется какая-то пока непонятная интрига.
Оставшись одни, за рюмкой доброго, пятидесятилетней выдержки бурбона они обсудили происшествие со всех сторон. В конце концов пришли к выводу, что ничего серьезного в этой шутке не крылось: скорее всего, мелко пометил какой-то банковский клерк, возможно, за что-то обиженный на одного из них.
— Уеду, — горько посетовал Иванюк. — Соберусь и уеду. Жену с детьми, вы же знаете, отправил в прошлом году. Пока они в Швейцарии. Но это временно. Если вы не передумали…
— А как же банк? — поинтересовался Шульц.
— Что банк? Работать невозможно нормально. Вы следите за новостями? Коммуняки опять пролезли в правительство. Бред, нелепица! Наши уже многие отчалили. И я уеду. Хватит! Нахлебался этого говна, на две жизни хватит. Объявлю себя дефолтом — прощай! Хоть подышу чистым воздухом на старости лет… Кстати, дорогой герр Шульц, надеюсь, наши договоренности остаются в силе?
— Разумеется. — Шульц посмаковал на языке острую, восхитительную жидкость. — Разумеется, герр Питер. Только к чему такая поспешность? Все-таки вы полезнее пока здесь. Если все сразу разбегутся…
Банкир склонился к нему, положил руку на колено. В глазах свинцовая тоска.
— Все понимаю, Генрих Узимович, все понимаю, но всему есть предел. Есть предел человеческим силам. Вы, дорогой друг, прожили среди дикарей два года и то, замечаю, у вас руки дрожат, а я здесь сорок лет. Практически безвылазно. Каково по-вашему?
— Трудно, — согласился Шульц. — Но, честно говоря, если бы не эти дикари, откуда вы взяли бы свои миллионы?
— Иногда, поверьте, готов отдать все до копейки, лишь бы знать, что этот гноящийся чирей, эта смердящая помойка закрашена на карте в зеленый цвет. Понимаете меня, дорогой герр Шульц?
Генриха Узимовича растрогала искренность банкира. Первое время, очутившись в России и встречаясь в основном с победившими демократами, с так называемыми новыми русскими, он поражался ненависти, которую они испытывали к родным пенатам, к земле, которая их вскормила. В этом было что-то больное, противоестественное. Возможно, так на новом историческом витке проявлялась пресловутая загадочность славянской души. Как у католика и горячего патриота Саксонии, такое отношение к родине предков, к их обычаям и обрядам, к языку и преданиям не могло вызывать у него никаких чувств, кроме презрения. Но с банкиром Иванюком случай особенный. Этот человек по-настоящему страдал от своей душевной неустроенности: Генрих Узимович жалел его, как врач иногда жалеет больного, предлагающего любые деньги за излечение, не понимающего простой истины, что даже за деньги здоровья не купишь.
— Если невмоготу, — сказал он, — тогда о чем говорить, герр Питер… Помните, я обещал похлопотать о присвоении вам звания «Лучший немец года»?
— Помню, конечно. Не получается?
— Напротив. Недавно мне сообщили друзья — дело почти решенное.
В неописуемом волнении банкир осушил рюмку, его худощавое лицо осветилось прелестной, наивной улыбкой…
…За баранкой «ситроена» вместо Жорика Пулкова расположился незнакомый, смурной мужик в кожаной кепке, причем Генрих Узимович обнаружил это, когда уже уселся на сиденье и захлопнул дверцу.
— Какого черта! — взревел Шульц. — Вы кто такой?
— Не волнуйтесь, мистер, — добродушно отозвался незнакомец, сверкнув бельмом на левом глазу. — Вреда вам никакого не будет. Небольшая прогулка.
— Какая прогулка?! — завопил доктор. — Что вам надо? Где Георгий?
Мужчина не ответил. Они уже ехали на довольно большой скорости, а выпрыгивать на ходу из машины Шульц не умел. Хотя особенно опасаться было нечего. К иностранцам у россиян, несмотря на нынешний бардак, сохранилось трепетное отношение, как у папуасов к Миклухо-Маклаю. Опасность могла исходить разве что от свободолюбивых чеченцев, которые после военной победы над Россией будто с цепи сорвались. Но за баранкой горбился явный русачок, и вид у него был дремучий.
На всякий случай Шульц-Степанков предупредил:
— Учтите, я иностранный подданный с правом дипломатической неприкосновенности.
— Надо же, — удивился Мышкин. — А по-нашему шпаришь без акцента в натуре. Никогда бы не догадался, что ты немец.
На Генриха Узимовича повеяло жутью. Немец! Откуда он знает?
— Где Георгий? — повторил он. — Почему вы не отвечаете? Вы его ликвидировали?
Мышкин обернулся, подмигнул белым глазом.
— Как у вас мозги интересно устроены. Коли человек помочиться пошел, значит, обязательно его ликвидировали.
— У кого это у нас?
— Как у кого? У наперсточников.
Генрих Узимович затих, напряженно размышлял. Мужик с виду нормальный, но явно не в себе. И шизоидность у него какая-то веселая, не медикаментозная. Такая шизоидность присуща сильным людям, когда они идут к четко просматриваемой цели. Очень опасное состояние и очень опасные люди. Генрих Узимович надеялся, что в России таких уже не осталось, реформа глубоко копнула. В Федулинске он их точно не встречал. Туг было о чем подумать. Если это все-таки похищение, то какой потребуют выкуп? И куда их направить за деньгами — к Хакасскому, к Иванюку или к своему поверенному в Мюнхен?
Между тем застряли у светофора на Трубной площади. Генрих Узимович попробовал открыть дверцу, но то ли ее заклинило, то ли смурной мужик успел проделать с ней какой-то фокус.
— Не усугубляй, мистер, — посоветовал Мышкин. — А то по тыкве получишь.
— Хорошо, — Генрих Узимович собрал мужество в кулак. — Объясните, что происходит? Куда вы меня везете?
— Один хороший человек хочет с тобой покалякать. Но с ним будь поаккуратнее, он ваших немецких штучек может не понять. Очень строгий господин, хотя и молодой.
— Что ему надо?
— Он сам скажет.
— Факс вы прислали?
— Я даже этого слова не понимаю, — сказал Мышкин. Тронулись дальше — в направлении Садового кольца.
Начало смеркаться, и на улицы высыпало много ночных работников — проститутки, бомжи, обкуренная молодежь. То и дело кто-нибудь дуриком выскакивал с тротуара под колеса, но мужик вел машину уверенно, от самоубийц ловко уклонялся. Хотя на съезде к Киевскому вокзалу у них на глазах джип-«чероки», несясь на бешеной скорости, смял-таки заголенную, хохочущую девчушку, отбросил ее с капота на мраморный парапет. Юная наркоманка, переломанная, как тряпичная кукла, так и отбыла восвояси, не успев закрыть хохочущего рта. Черная кровь из расколотого черепа живописно хлынула на щеки. Шульц-Степанков брезгливо поморщился.
— Одного не могу понять, зачем такие сложности? Ваш авторитетный гражданин вполне мог заехать ко мне на службу. Я бы его принял. В чем, собственно, проблема?
— Выходит, не мог. Не ломай себе голову, мистер, скоро будем на месте. «Гардиан-отель», тут совсем рядом.
Генрих Узимович немного успокоился. В «Гардиан-отель» проходимцев не пускали. Там останавливалась приличная публика, большей частью забугорная. Он и сам как-то года два назад провел там ночку. Незабываемые впечатления. Сервис на уровне Гонконга. Помнится, ему предложили для развлечения на выбор негритянку, француженку, турчанку и двенадцатилетнего мальчика-россиянина. Он был в отличном настроении, как раз подписал замечательный контракт с Хакасским, и забрал всех четверых. Правда, сил у него хватило только на роскошную негритянку с чугунными, каждая по пуду, грудями, остальные болтались всю ночь по номеру неприкаянные.
— Можете хотя бы сказать, из какой вы группировки?
— Какая тебе разница, мистер? Не лезь на рожон, глядишь, все обойдется.
Опять потянуло жутью, и Генрих Узимович поежился в своем теплом, кожаном пальто.
В номере их встретил молодой человек приятной, вовсе неустрашающей наружности. Отнюдь не бандит, у Генриха Узимовича в этом отношении глаз был наметанный. Светловолосый, с грустной улыбкой, с обходительными манерами. Сперва Генрих Узимович воодушевился, ничего серьезного, но когда встретился с юношей взглядом, как в пропасть рухнул. В груди не то что похолодело, прямо-таки железным обручем сковало сердце: влип, старый дурак, ох как влип! В ясных глазах незнакомца лес темный. А в том лесу ведьмы и лешаки. Не эти ли ужасные глаза мерещились ему в тяжелые ночи, когда нарушал режим и душа обмирала в неизбывной тоске, и дикая страна, где очутился, увы, по доброй воле, вдруг заглядывала в окно смутной, нечесаной головой, изрытая невнятные, грозные проклятия, могущие свести с ума. И еще. У этого юноши, как он отметил, не было возраста. Как и Леня Лопух, он прекрасно знал, что это означает. Если нет возраста, нет и жалости. Он видел перед собой совершенно равнодушного человека, изучающего его, знаменитого немецкого профессора, с отрешенным любопытством зоолога, наблюдающего за ползущей по склону улиткой. Именно так он обыкновенно разглядывал подопытных россиян, и вдруг сам угодил под микроскоп — помоги, Господи!