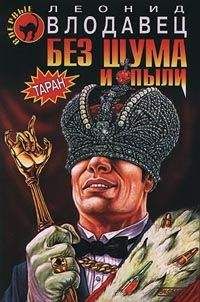Но в обоих случаях, как казалось Вредлинскому, рядовой художественный фильм, снятый к тому же на материале довольно давней истории, не должен был привлечь такое пристальное внимание Генерала. В чем же дело?!
Загадка казалась неразрешимой. Волей-неволей Эмиль Владиславович вынужден был обратиться к памяти. Что ж он там такого понаписал в своем романе?
Из рукописи Вредлинского
Каждый октябрь — вот уже в течение двадцати лет— действовал на государя Николая Александровича угнетающе. Особенно вторая половина месяца.
Дворцовая челядь, начиная с гардеробщика Мартышкина или писца Кирпичникова и кончая начальником военно-походной канцелярии графом Орловым или министром императорского двора бароном Фредериксом, знала о царской осенней меланхолии. Поэтому все срочные указы, высочайшие повеления и соизволения готовились загодя, до начала периода I императорской хандры. Заинтересованным лицам, добивавшимся аудиенции у государя, сведущие люди рекомендовали повременить несколько недель и не являться к царю со всевозможными прожектами, просьбами, жалобами. Разумеется, ежели не желали по той или иной причине отрицательных для просителя решений.
Близкие относились к таким перепадам в настроении обычно сдержанного и умевшего владеть собой Николая II с пониманием. Связывали их с давним морским путешествием, в котором Николаю Александровичу, в то время еще наследнику престола, пришлось пережить драматические минуты покушения на его жизнь. Путешествие, в ходе коего будущего императора несильно рубанул саблей японский городовой, начиналось именно 23 октября.
Все это было верно, но лишь отчасти. Тем более что кризис нынче затянулся.
Никто не ведал о том, а царь ни с кем не делился истинными причинами своих внутренних переживаний, что с недавних пор, точнее с прошлогодних октябрьских дней в Крыму, ему и во сне, и призрачно наяву начал являться покойный отец. То в странных образах и ситуациях, то с ужасающими речами.
Впервые это случилось во время вполне безмятежной прогулки.
В среду, 16 октября, Николай Александрович с небольшой компанией оказался в горах. Преодолели пешком гурзуфскую седловину, взобрались на пуп — вершину Роман-Кош. Так шутили по поводу высшей точки Яйлы — главного хребта Крымских гор. И повеселились изрядно. Погода расчудесная, вид во все стороны распрекрасный. Если бы не голод, то и спускаться вниз не хотелось бы. Внизу, под буковыми деревьями, их ждал полдник. Тут же стояли два автомобиля. Перекусили под хохот и шутки. Через час тронулись в путь. Николай Александрович сел вместе с моряками, Злебовым и Бутаковым, а сухопутчики, Дрентельн и Комаров, разместились отдельно от них во втором автомобиле. Флотские офицеры увлекли государя своим незлобивым, но остроумным спором о достоинствах двух царских яхт — «Штандарт» и «Цесаревич». Доказывали один другому, на какой посудине преподобный Ной согласился бы, выпади такая оказия, пережидать всемирный потоп. В конце концов Бутаков, сидевший рядом с императором на заднем сиденье, повернулся к нему и в порыве подобострастия, а может, и впрямь увлекся шутливой дискуссией, запальчиво признался:
— Не знаю, какую шхуну выбрал бы Ной, но, ручаюсь, экипаж (заметьте: гвардейский экипаж!) «Цесаревича», где я имею честь, ваше императорское величество, служить по вашей милости старшим офицером, желал бы видеть на командирском мостике не Ноя, а своего государя!.. И еще так скажу, вот на Балтике есть порт имени императора Александра Третьего. Но почему бы на Черном море не иметь порт, названный в вашу честь? Не думаю, что вы менее достойны. И всемилостивейше прошу не гневаться, но не уверен, что ваш достойнейший отец удостоил бы нас, мало именитых мореманов, сидеть с их величеством в одном моторе…
Бутаков как-то не заметил, что вокруг них вдруг сгустился невесть откуда появившийся туман. Он продолжал развивать свою верноподданническую идею о порте (пусть на месте Феодосии, пусть Одессы или даже самого Севастополя) имени императора Николая II и тогда, когда машина остановилась и ко9 гда Злебов, явно недовольный Бутаковым, пошел разведать дорогу.
Николай Александрович долго потом не мог понять своего состояния. Вроде бы и не спал, слушал не в меру разговорившегося старшего лейтенанта, только вдруг откуда-то из непроницаемого густого марева раздался глухой перебой корабельного колокола, а в самое ухо дохнул горячим шепотом басовитый отцов голос:
— На моей яхте катаешься!..
Вздрогнул, посмотрел в ту сторону, а там, на том же черном, колышущемся непрогляде, возникают и исчезают отцовы фотографии, да все больше с похоронной процессии.
Все это длилось такое короткое мгновение, что он даже не успел испугаться или осмыслить увиденное и услышанное. А когда попытался испугаться и осмыслить, то уже увидел перед собой затылки шофера и Злебова.
Снова вокруг прекрасный вид горного пейзажа, сзади чуть слышно пофыркивает автомобиль с сухопутными генералами. И лишь Бутаков сидит рядом какой-то поникший и встревоженный. А может, тоже вздремнул и никак не прогонит сонное состояние.
Он и решил, что это был кратковременный сон, поэтому с Бутаковым объясняться не стал. А вскоре совсем забыл бы об этом случае, да не позволил это сделать все тот же Бутаков.
По приезде их встречал дворцовый комендант Дедюлин. Николай Александрович услышал, как Бутаков горячо и громко шептал Дедюлину о своем странном сне в дороге, дескать, покойный государь Александр III ругал его на чем свет стоит.
— А что ж удивительного, — улыбнулся комендант. — В пути холодными закусками угощались? Угощались! На полный желудок частенько кошмары видятся. К тому же почивший в бозе государь Александр Александрович, царствие ему небесное, мог не только поругать, но и прибить под горячую руку. Строг был, даже лютовал, случалось. Нынешний по сравнению с ним — агнец божий!
Это уже говорилось, конечно, откровенно для императорских ушей, но Николай Александрович и на сей раз отмолчался перед этой не слишком назойливой лестью.
Вечером перед сном его почему-то потянуло разбирать старые фотографии и наклеивать их в альбом, чего уже он давно не делал.
Плотный, синеватый картон напоминал стену тумана, а снимки отцовы так и тянулись к нему в руки.
Долго боялся ложиться спать и вспомнил о том, что ровно двадцать пять лет назад их семья попала в железнодорожную катастрофу. Болезненное воображение рисовало медвежистую фигуру отца, поддерживающую на могучих руках и плечах крышу полуразрушенного вагона. Не дождись тот в таком положении помощи, быть бы им или раздавленными, или искалеченными.
— … А ты меня не спас! Не отвел руку злодеев!.. Пособлял убийцам! жуткий, потусторонний глас императора-миротворца и сейчас, белым днем, леденил кровь.
Это обвинение прозвучало в кошмарном сне, который мучил венценосного сына всю ночь. Николай просыпался в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем, с трудом успокаивался. Но стоило вновь забыться — и отец, огромный, бородатый Атлант, держащий на могучих плечах не то многопудовую крышу вагона, не то вообще самое небо, готовое обрушиться и похоронить под собой всю огромную Российскую империю, вновь вставал перед глазами.
Вставал и бросал в лицо сыну тяжкое, безжалостное обвинение…
Вновь следовало пробуждение с ощущением ледяного ужаса, будто пропитавшего собой все поры души, — и все повторялось сызнова, по новому кругу. Лишь напоследок, перед самым утром, сводящий с ума цикл распался. Но как!
— Ты вор, Николашка! — прогудел призрак Александра III. — Отцеубийца и вор! Мне полсотни лет не было, когда меня не без твоего ведома изверги ядом напоили. Я б по ею пору жить мог, и править Россией, и разума еще не утратить. Да правил бы так, что Русь оставалась великой и несокрушимой. А ты, негодяй, корону уворовал до срока! Украсть-то украл, но не по тебе сия ноша — не удержишь! Понимаешь ли ты это, датский выродок?!
И вновь Николая выбросило из сна. На сей раз уже при свете утра, но леденящий ночной страх не проходил. Мысли, то беззаветно-покаянные, то дерзновенно-адвокатские, так и роились в голове. Но и каяться по-настоящему, и защищать себя перед собственной совестью Николай не мог. Он почти физически ощущал ту чудовищную, невероятную тяжесть, которую держал на могучих плечах его отец. И наяву, когда спасал их от гибели в вагоне, и в недавнем сне, когда привиделся Атлантом. Только теперь эта невидимая тяжесть лежала уже на его, Николая II, царственных плечах, украшенных погонами полковника лейб-гвардии. Увы, совсем не таких могучих, как у богатыря-родителя. А где-то в мозгу даже сейчас, солнечным утром, нет-нет да и слышался отчетливо глас царя-миротворца, то гневный, то издевательский:
— Ну, и каково тебе, сын мой богоданный, нести бремя правления? Чаю, не удержать его тебе! И ростом тебя бог обделил, и телесной силой, и духовной. Обречен еси!