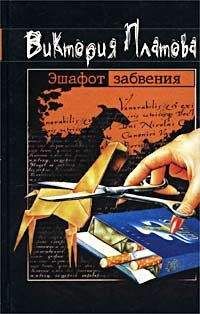Ознакомительная версия.
Милый мой дружочек, марийский гений, иллюстратор “Калевалы”, безнадежно влюбленный, счастливо влюбленный, – я даже не знала, сколько просидела вот так, периодически впадая в забытье… Нужно взять себя в руки, тупо говорила я себе, – и не могла. Я сидела у него в ногах и вспоминала легкий марийский акцент, дешевую куртку, мутный самогон, дурацкое слово “запупырить”, “Шекспира на сборе хвороста”, Микки Спиллейна по вечерам, фенобарбитал, которым он меня снабжал… Мне нельзя было уходить отсюда, мне нельзя было оставлять его… Если бы я была рядом, ничего подобного не случилось бы… Анук Эме, всегда пребывающая в отличном расположении духа, спасла бы тебя… Серьга, Серьга!.. Я почувствовала привкус крови во рту, и только это привело меня в чувство. Кому нужно было убивать его? Ничего ценного, кроме картин, кроме папок с набросками… Я машинально осмотрела комнату: все было на местах, только пленки с рабочими записями размотаны и порваны: как будто кто-то искал что-то в записях, но, так ничего и не обнаружив, выместил свою злость на магнитной ленте. Пудель, о котором я почти забыла, впадая в провалы беспамятства, дергал меня за край пальто. Если собака здесь, то где же Елик? Я даже не знаю, как зовут собаку, но где же Эльвира, а для друзей – Елик, Ела, Елка?.. Он все тянул и тянул меня куда-то, этот грязно-серый комок свалявшейся шерсти, и я подчинилась ему.
…На кухне, привалившись спиной к батарее, сидела Елик. Разбросанные ноги в теплых шерстяных колготках с аккуратно заштопанными пятками – Елик вообще была аккуратной девушкой… Фланелевый халат с большими алыми маками на зеленом фоне, повязанный белоснежным передником, – ни пятнышка, ни подтека… Гусь на столе – она даже не успела поставить его в духовку; несколько тарелок с уже готовыми салатами, мастерица, хозяюшка, именно такая жена нужна была Серьге…
Нет, крови нет. Никакой крови нет.
В собачьем блюдце валялись ошметки гусиных внутренностей, а под грудью у Елика торчала рукоять. Я уже видела похожую.
Я уже видела похожую под старческой грудью забытой актрисы Татьяны Петровны Александровой… На лице Елика застыло изумление, она так ничего и не поняла в последний момент. Господи, до чего же она трогательно-некрасива, даже смерть не сгладила ее черты… Но эта рукоять, полное отсутствие крови… Кошмар начинается снова. Кошмар, которому был положен конец в кафе-хамелеоне “Паломник”. Кошмар, ушедший в воронку незакрытой ванной вместе со стройной версией гения сыска Бориса Клепикова… И единственное связующее звено между убийствами на студии и этим диким двойным убийством – я…
Я – виновница всех несчастий, я – магнит, который притягивает преступления. Я, я, во всем виновата только я. Но почему разбросаны и изуродованы пленки, кто так впал в ярость при виде магнитофонных записей разговоров с самоубийцами? Даже салаты не тронули и ни одного ящика не выдвинули… Кто загнал под сердце Елика эту рукоятку? И почему она не сопротивлялась, почему позволила убить себя?..
Я не могла больше здесь оставаться, я даже не смогла проститься с мертвым Серьгой. Плохо соображая, я спустилась вниз, вызвала милицию по чихающему таксофону и побрела прочь от дома Серьги. Дома, который стал его последним прибежищем в канун Рождества…
* * *
…Ничего не кончилось.
Рукоять под сердцем у Елика, тот же нежный и внезапный удар в грудь, который был нанесен Татьяне Петровне Александровой. Они накладывались друг на друга, они говорили мне – ничего не кончилось. Я пыталась связать эти убийства – и не могла. Три актрисы составляли звенья одной цепи, они идеально укладывались в схему, предложенную Клепиковым. Но Елик – она не была актрисой, она не работала в группе Братны, она даже никогда не была на “Мосфильме”, она выпадала из схемы. Ничего общего – и совершенно одинаковый почерк убийцы. Придя в себя (на это потребовались сутки), я пыталась проанализировать убийство Елика и Серьги и постоянно заходила в тупик. Если Елика убили так же, как и актрис, то почему Серьге была уготована такая ужасная смерть? Единственное, что связывало их, – полное отсутствие крови, как будто убийца боялся се пролить. Как будто он вообще боялся ее. Только потом, много позже, я начала думать о пленках, разбросанных на полу комнаты. Я пыталась восстановить все свои ощущения и наконец-то вычленила главное: было похоже, что пленки просто уничтожили. Но кто и – самое главное – зачем? Какой компрометирующий разговор искал убийца, и искал ли он его вообще? Быть может, он ограничился лишь тем, что попытался уничтожить их? Так или иначе – я чувствовала это подсознательно, – смерть Серьги была целиком на совести безнадежно испорченных пленок. Возможно, Серьга разговаривал с кем-то, кто мог что-то сообщить ему. Что-то важное. Важное для собеседника Серьги и для убийцы. Сам Серьга мог и не придать этому значения.
Ты не можешь сдаваться. Ты не должна сдаваться, что бы там ни думал капитан Константин Лапицкий.
Я вспомнила, что все разговоры автоматически фиксируются и на головной базе кризисного Центра реабилитации самоубийств. Значит, искать нужно там, это один шанс из тысячи, но чем черт не шутит… Спустя два дня, запасшись рекомендациями, взятыми у документалиста Гоши Полторака, и выслушав от него поздравления “С Новым годом! С новым счастьем, старуха! Привет Серьге, им довольны, очень”, я отправилась в кризисный центр и представилась его директору, кроткой пожилой женщине Ольге Александровне, сотрудницей “Мосфильма”, которая готовит материалы для будущей полнометражной художественной картины о кризисном центре. Моего маловразумительного пропуска даже не понадобилось, когда я сказала, что пришла по рекомендации Егора Полторака: здесь его хорошо знали и, похоже, любили. Я выслушала краткий экскурс в историю создания центра, узнала, что в нем работают четыре женщины, все с высшим психологическим образованием, “очень ответственные девочки, они у нас просто чудеса творят…”. Почтительно прослушав курс лекций, я наконец попросила разрешения заняться разговорами Серьги: говорят, вы взяли в штат какого-то слепого художника? (Прости меня. Серьга!) И попросила разрешения прослушать некоторые записи. Очень ненавязчиво я подвела ее к теме Серьги, и она охотно дала мне пленки. На письменном столе директора стояла крошечная елочка и фотография в золоченой рамке – двое детей с такими же широко посаженными и близорукими, как у Ольги Александровны, глазами – внуки. Машенька и Арсюша, представила их Ольга Александровна. Да-да, очень милые, мне они очень понравились…
Кризисный центр занимал небольшую трехкомнатную квартирку, напичканную аппаратурой, запахом дешевого растворимого кофе и плакатами с Жераром Депардье на стенах: очевидно, все четыре штатные сотрудницы центра сходили с ума по хулиганистому обаятельному французу.
Получив искомые пленки, я уселась в дальней комнате и под бдительным оком Депардье принялась за прослушивание.
…На плакате был запечатлен кадр из фильма “Под солнцем сатаны”. Я видела эту картину еще во ВГИКе. В ней Депардье играл сходящего с ума священника; сейчас я точно так же сходила с ума, выслушивая разговоры Серьги с совершенно разными людьми. Похоже, я взялась за непосильную задачу – голос Серьги, такой живой, ничего общего не имеющий с безжизненным телом, оставленным мной в квартире на “Пражской”, ранил меня в самое сердце, не давал сосредоточиться. Я с трудом понимала суть реплик, а когда понимала, то забывала о том, что Серьга мертв. Только теперь – непоправимо поздно – я поняла, каким сильным характером он обладал, как интуитивно чувствовал малейшие нюансы в поведении собеседника, как безошибочно находил именно те слова, которые были необходимы… Спрятав голову в ладонях, я тихонько плакала, с ужасом ожидая, что сейчас откроется дверь и войдет кто-нибудь из сотрудниц – уже два раза они приносили мне кофе. Только спустя несколько часов мне удалось собраться и сосредоточиться на сути многочисленных монологов каныгинских собеседников. В них не было ничего криминального, ничего настораживающего – только отчаяние, растерянность и почти невыполнимое желание быть услышанным.
…Я наткнулась на этот разговор уже в самом конце дня, ослепнув и оглохнув от чужих несчастий, и почти сразу же вспомнила его предысторию: Серьга рассказывал мне о странных отношениях, которые сложились между ним и одной из его собеседниц, пожилой женщиной, которая звонила ему несколько ночей подряд, а потом неожиданно исчезла. Я не попала на самое начало разговора, я остановила пленку на самой середине фразы: женщина напевала песенку когда-то хорошо поставленным, а теперь безнадежно состарившимся голосом: “Не входите в старый дом, можно затеряться в нем…"
– Вы никогда не слыхали такой песни, Сережа? Можно я буду называть вас Сережей?
– Да, конечно… О щем вы говорите. – Я услышала бесконечно близкое и бесконечно далекое каныгинское “щ” и едва подавила стон.
Ознакомительная версия.