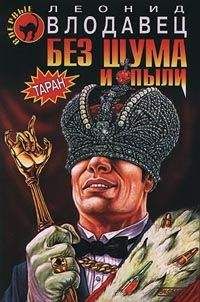— Но ведь еще и дверь номера была изнутри закрыта! — напомнила Ирина. Притом на ключ. А его такой проволочкой не повернешь…
— В принципе если в ушко ключа аккуратно всунуть карандаш, а за нижний конец карандаша все ту же проволочку привязать, то можно! — возразил Иван. Конечно, при этом карандаш внутри номера остается, но можно и с этим делом справиться, если на пол под дверью газетку подстелить и осторожненько сронить на нее карандаш. Потом вытянешь газетку с карандашом и иди гуляй… Но, конечно, это слишком приметно. В коридоре люди ходят, могли бы запомнить, что кто-то у двери возился. Здесь все сделали проще…
— Интересно, как? — Ирина уже почти готова была поверить в то, о чем с ленцой в голосе рассказывал Муравьев.
— Вот смотри, напротив двери санузла — стенной шкаф-гардероб. В соседнем номере, 613-м, точно такой же…
— И у них общая ниша?! — догадалась Колосова.
— Так точно. Шкафы отделены друг от друга переборкой из фанерованной ДСП. Но переборка эта состоит из трех плит. Самая большая вот тут, — Иван показал на среднюю секций шкафа, где на плечике висела Иринина куртка — Но ее, наверно, тяжело снимать было. Самая маленькая плита — наверху, куда головные уборы кладут. Там узковато, даже мальчишка не пролезет. А вот внизу, где обувь, самое оно. Здесь, у тебя, она крепко приколочена, а там, в 511-м, только надави — и ляжет… Это я, правда, чуть попозже выяснил. Вот эти реечки треугольного сечения, типа плинтуса, у тебя и в 613-м зажимают ДСП с двух сторон. А в 513-м они с той стороны отодраны. Стало быть, надо искать того товарища, который в 513-м проживал.
— Да-а… — протянула Ирина. — А оперы этого не заметили?
— Я думаю, постараются не заметить, Ира.
Колосова на несколько минут задумалась, а потом сказала:
— Допустим, ты мне доказал, что некто мог оставить обе двери закрытыми, а сам вылез через шкаф и потом спокойно ушел через 513-й номер. Но это еще не доказывает, что этого самого Гнатюка зарезали.
— Понимаешь, Ира, — покачал головой Муравьев, — если б я самого главного не разглядел, то не стал бы вычислять, как можно было уйти, оставив двери закрытыми изнутри.
— Ну, и что ж ты разглядел?
— Во-первых, то подозрительно, что этот блатняга себе горло располосовал. Обычно вены на руках режут, а у него сонная артерия перерезана. Во-вторых, в ванне, рядом с трупом, лежала открытая клинковая бритва. Вроде бы все понятно, зарезался и уронил в воду. Но на полочке под зеркалом или над умывальником как хошь считай! — стоял стаканчик с безопасной бритвой. «Жиллет-плюс», по-моему. Очень редко бывает, чтоб мужик и той, и другой брился. Ну, и самое главное — рана идет не под тем углом…
— Как это?
— Нехорошо, говорят, на себе показывать, но все же покажу, так и быть, Иван взял в правую руку Иринину расческу, лежавшую на столе, и приложил к горлу с левой стороны. — Представь себе, что это бритва, и я сижу в ванне, вытянув ноги. Короче, собираюсь зарезаться. Видишь? Чтоб быстро и сильно самому себя резануть, надо вести бритву сверху вниз и наискось, слева направо. То есть левый конец раны должен быть намного выше правого. А на самом деле почему-то правый край выше. Так могло получиться, ежели его сзади за под бородок захватили, а потом сзади по горлу дернули. Уловила?
— Да, кажется… — вздохнула Колосова.
— И еще одно, — добавил Муравьев. — Там, в санузле, пол очень чистый. Хотя, по идее, Гнатюк этот самый лежал, опираясь спиной на ванну, а головой на стену. На краю ванны кровь есть, а на полу — ни капельки. А бортик ванны скругленный, покатый, так что если на него кровь лилась, то должна была и на пол накапать. Неужели, блин, этот мужик с перерезанным горлом был такой аккуратный, что за минуту до смерти взял тряпочку и протер пол? Да еще и тряпочку после этого в туалет спустил…
— Значит, эти, которые его зарезали, излишне перестраховались?
— Скорее всего кто-то из них в эту кровь ногой вляпался.
Ну и, чтоб следов не оставлять, все затер. Не сообразив, что чистый пол тоже может подозрения вызвать.
— Послушай, я, может, и не эксперт по части того, как людей резать, задумчиво произнесла Ирина, — но могу догадаться, что по крайней мере тот, кто ему горло бритвой располосовал, должен был порядком в крови перепачкаться. Ну, и как ему после этого уходить из гостиницы?
— Правильный вопрос. Могу предложить два варианта на выбор. Первый: Гнатюка мочили несколько мужиков. Извозились в крови, вылезли в 513-й номер, там ополоснулись, переоделись и смылись. Второй вариант: баба. Она могла вообще голой туда зайти. Зарезала, окатилась под душем, вытерлась сухим полотенчиком, оделась — и в родной 513-й. Сказать откровенно, мне в этот второй вариант больше верится. 513-й тоже одноместный, значит, один или двое должны были откуда-то со стороны появиться, то есть их кто-нибудь из обслуги мог бы приметить. Опять же, даже если они очень ловкие и здоровенные, бесшумно сделать этого хлопца было бы нелегко. Не говорю, что совсем невозможно, но труднее. А вот змея какая-нибудь с красивыми ножками
— запросто бы его уработала.
— Ты еще не справлялся, кто жил в 513-м, как я поняла?
— Пока не рискнул. С Валькой у меня особой доверительности нет, опять же есть подозрения, что она этому Петру дозволила нелегально проживать в гостинице. Ну, время пока терпит, я думаю. У администраторши можно узнать, по книге приезжающих. Одно мне непонятно, Ирунчик…
— Что?
— Да отчего тебя вся эта история заботит? Конечно, понимаю, что ты мне всего рассказать не можешь, но так, в общих чертах, наверно, можно объяснить?
— Пока, Ванечка, лучше не объяснять. Давай лучше шампанское откупорим, как завещал товарищ Пушкин!
Дождь за окном старого балка накрапывал точно так же, как полчаса назад, только небо стало чуть потемнее, дело к вечеру близилось. Ветер все так же шелестел, подвывал и изредка посвистывал. Ничего особо не изменилось, если иметь в виду окружающий балок карьерный ландшафт и другие природные явления.
Однако теперь Таран смотрел на все это какими-то другими глазами. Да и вообще, на душе у него было как-то неспокойно. Словно три пряди в одну косичку сплелись — восторг, удивление и стыд.
Конечно, Юрка уже не в первый раз переживал что-то похожее. Весной он здорово разгулялся — Аня, Фроська, Полина, Василиса. Все как в угаре, сумасшедший дом. Тогда он был вообще готов умереть, лишь бы не смотреть Надьке в глаза. Но пережил как-то и даже не стал сознаваться в своих грехопадениях. А потом все ухабы на душе заровнялись, и Таран даже стал считать все произошедшее в мае эдаким приятно-дурным сном. Само собой разумеется, что он клятвенно уверял самого себя, что больше никогда и ни с кем Надьке не изменит. Более того, в голове у Юрки даже звучало нечто угрожающее, типа строки из присяги: «…А если я нарушу эту торжественную клятву, то…»
И вот — нарушил. Да, он прекрасно знал, что ему «после того» будет стыдно. Хотя Милка — баба надежная, неболтливая и выказывать свое торжество широкой дамской публике не будет. Возможно, она тоже немного кается — все-таки к Надьке она всегда относилась неплохо. И Таран до сего дня видел в Милке нечто среднее между старшей сестрой, молодой теткой и просто приятельницей. Сама Милка, несмотря на общую простоту нрава — за минувший год у нее, поди-ка, с десяток «мамонтов» в кавалерах числилось! — в Юркину личную жизнь тоже не вмешивалась. Но тут, должно быть, с темпераментом не совладала. Как и Таран, впрочем.
Однако стыд, накативший на Юрку постфактум, был намного меньше, чем прежде. И, разумеется, никаких самоубийственных мыслей, типа тех, что посещали его в мае, у него и близко не было. Именно это и вызывало у Тарана чувство удивления.
Глядя как бы со стороны на свою реакцию, Юрка удивлялся тому, как быстро он находит оправдание своим поступкам, как легко переходит от покаянных мыслей к цинично-фривольным. А заодно, конечно, у него проскальзывали и совсем бесстыжие мыслишки. Дескать, все мужики так живут, жили прежде и в следующем тысячелетии ни фига не изменятся. Соответственно ему нечего стыдиться. Конечно, некий бес в душе нашептывал, что и Надька не безгрешна. Таран посещает ее только в выходные, а как она остальные пять дней в неделю проводит, знает лишь с ее слов да со слов тещи, тети Тони. Конечно, по словам Надькиной мамаши, она все время проводит с Алешкой-Таранчиком, но разве мать расскажет мужу дочери полную правду? Ой, навряд ли! Ну и слава богу, пусть каждый из них, и Таран, и Надька, о своих делишках будут помалкивать. Любовь у них все-таки настоящая…
В этом факте Юрка прежде никогда не сомневался. И сейчас продолжал убеждать себя в том, что это не подлежит сомнению. Однако это был только официальный лозунг. На самом деле Таран уже настолько подрос в плане умения оценивать собственные чувства, что не мог не подвергнуть свою «Декларацию о любви» критическому осмыслению.