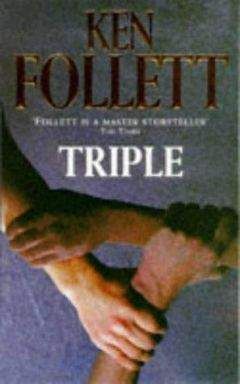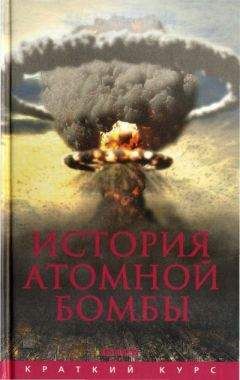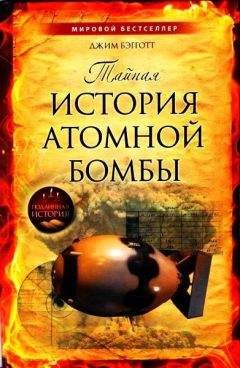Ознакомительная версия.
– Врешь. Ты никак влюблен, дурачок. Я-то вижу. Кто она?
– Ну, честно говоря… – Дикштейн явно смутился. – Она не нашего круга. Жена профессора. Экзотическая, умная и самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел.
Кортоне изобразил сочувственную физиономию.
– Боюсь, что тебе ничего не светит, Нат.
– Знаю, но все же. – Дикштейн встал. – Ты сам увидишь.
– Я могу встретить ее?
– Профессор Эшфорд устраивает вечеринку. Я получил приглашение. И как раз собирался, когда ты пришел. – Дикштейн потянулся за пиджаком.
– Прием в Оксфорде, – протянул Кортоне. – Ну и поражу же я своих в Буффало!
Стояло прохладное солнечное утро. Бледноватые лучи солнца омывали светом замшелые стены старых зданий. Они шли в молчании, которое не тяготило их, засунув руки в карманы, чуть ссутулясь, чтобы противостоять режущему ноябрьскому ветру, который свистел вдоль улиц. Кортоне пробормотал:
– Ну и холодрыга, мать ее…
По пути им встретилось всего несколько человек, и, отшагав с милю или около того, Дикштейн показал по другую сторону дороги на высокого человека с университетским шарфом вокруг шеи.
– Это русский, – сказал он и крикнул: – Эй, Ростов!
Русский поднял глаза, махнул им и перешел на их сторону. У него была короткая прическа армейского образца, пиджак массового пошива болтался на его высокой худой фигуре. Кортоне начало было казаться, что в этой стране все, как на подбор, тощие.
– Ростов учится в Баллиоле-колледже, таком же, как и я. Давид Ростов, я хотел бы представить вам Алана Кортоне. Мы с Аланом вместе воевали в Италии. Идете к Эшфорду?
Русский торжественно склонил голову.
– За бесплатной выпивкой – куда угодно.
– Вы тоже интересуетесь еврейской литературой? – спросил Кортоне.
– Нет, я изучаю тут буржуазную экономику, – ответил Ростов.
Дикштейн расхохотался. Кортоне не понял, что тут смешного. Дикштейн объяснил:
– Ростов из Смоленска. Он член ВКП(б) – Всесоюзной Коммунистической партии большевиков Советского Союза.
Кортоне по-прежнему не понял, что смешного в ответе Ростова.
– А я думал, что никто не имеет права покидать Россию, – сказал он.
Ростов пустился в долгие и путаные объяснения, связанные с тем, что по окончании войны его отец был дипломатом в Японии. Он говорил с серьезным выражением лица, которое уступило место смущенной улыбке. Хотя его английский оставлял желать лучшего, у Кортоне создалось впечатление, что он достаточно исчерпывающе излагает свои мысли. Рассеянно слушая его, Кортоне думал, что вот ты любил человека, как брата, дрался с ним бок о бок, а потом он расстается с тобой, и при встрече ты узнаешь, что он изучает еврейскую литературу, и понимаешь, что никогда по-настоящему не знал его. Ростов обратился к Дикштейну:
– Так ты еще не решил, едешь ли ты в Палестину?
– В Палестину? – переспросил Кортоне. – Чего ради?
Дикштейн несколько смутился.
– Я еще не решил.
– Ты должен ехать, – сказал Ростов. – Создание еврейского национального дома позволит покончить с остатками Британской империи на Ближнем Востоке.
Кортоне не верил своим ушам.
– Арабы вырежут вас там до последнего человека. Господи, Нат, да ты же только что спасся от немцев!
– Я еще не решил, – повторил Дикштейн. Он раздраженно мотнул головой. – Я и сам не знаю, что делать. – Чувствовалось, что ему не хотелось говорить на эту тему.
Они прибавили шагу. Лицо Кортоне стало мерзнуть, но под зимней формой он обливался потом. Его спутники обсуждали недавний скандал: человек по фамилии Мосли – она ничего не говорила Кортоне – выразил намерение явиться с машиной в Оксфорд и произнести речь на дне памяти павших. Мосли был фашистом, сообразил он. Ростов доказывал, что данный инцидент демонстрирует, насколько социал-демократы ближе к фашистам, чем к коммунистам. Дикштейн же утверждал, что старшекурсники, которые организовали это мероприятие, всего лишь хотели «шокировать» общество.
Слушая, Кортоне присматривался к двум своим спутникам. Они представляли собой странную пару: высокий Ростов, с туго, подобно бинту, обмотанным вокруг шеи шарфом, с хлопающими на ветру обшлагами слишком коротких брюк, и миниатюрный Дикштейн, с большими глазами за круглыми стеклами очков, в старой военной форме цвета хаки, который и на ходу выглядел подобно скелету. У Кортоне не было академического образования, но он был уверен, что на любом языке сможет уловить уклончивость и неискренность, и не сомневался, что никто из двоих не говорит то, во что искренне верит: Ростов, как попугай, излагал затверженные догмы, а за короткими ехидными репликами Дикштейна скрывалось более глубокое отношение к теме разговора. Когда Дикштейн насмехался над Мосли, он напоминал ребенка, который высмеивает приснившиеся ему кошмары. Оба они спорили умно и тонко, но без лишних эмоций, и их диалог напоминал фехтование на тупых рапирах.
Наконец Дикштейн заметил, что Кортоне не принимает участие в разговоре, и начал рассказывать о хозяине вечеринки.
– Стивен Эшфорд несколько эксцентричен, но очень интересный и достойный человек, – сказал он. – Большую часть жизни он провел на Ближнем Востоке. Сколотил себе состояние, но полностью потерял его. Склонен делать сумасшедшие вещи, например, пересечь арабскую пустыню на верблюде.
– Не такое уж это сумасшествие, – возразил Кортоне.
– У него жена – ливанка, – заметил Ростов. Кортоне взглянул на Дикштейна.
– Она…
– Она моложе его, – торопливо сказал тот. – Он привез ее в Англию как раз перед войной, когда стал профессором кафедры семитской литературы. И если он предложит тебе марсалу вместо шерри, значит, ты слишком загостился.
– И гости могут уловить эту разницу? – спросил Кортоне.
– Вот его дом.
Кортоне был готов увидеть нечто вроде мавританской виллы, но дом Эшфорда представлял собой имитацию тюдорианского стиля: выкрашен в белый цвет с зелеными деревянными накладками. Садик перед домом представлял собой сплошные заросли кустарника. Трое молодых людей направились по выложенной кирпичом дорожке к входу. Парадная дверь была открыта. Они оказались в небольшом квадратном холле. Где-то в глубине дома слышался чей-то смех: вечеринка уже началась. Распахнулась двустворчатая дверь, и на пороге предстала самая красивая женщина в мире.
Кортоне был поражен. Он стоял, не сводя с нее глаз, когда она, пересекая ковер, направлялась к ним. Он слышал, как Дикштейн представил его: «Это мой друг Алан Кортоне», – и вот он уже касается ее узкой смуглой кисти тонкого рисунка с теплой и сухой кожей; он поймал себя на том, что не хочет выпускать ее.
Повернувшись, она пригласила их в гостиную. Дикштейн коснулся руки Кортоне и улыбнулся: он прекрасно понимал, что сейчас творится в голове его друга.
Небольшие стаканчики с шерри с армейской безукоризненностью выстроились на небольшом столике. Протянув один из них Кортоне, она улыбнулась:
– Меня, кстати, зовут Эйла Эшфорд.
Когда она протягивала ему напиток, Кортоне уловил и все остальные детали. Подчеркнуто скромный вид, удивительное лицо без макияжа, прямые черные волосы, белое платье и сандалии – тем не менее, она выглядела обнаженной, и Кортоне мучился дикими мыслями, когда глазел на нее.
Он заставил себя отвернуться и присмотреться к окружению.
Какой-то араб в прекрасно сшитом костюме западного образца жемчужного цвета стоял около камина, разглядывая резьбу комода. Эйла Эшфорд окликнула его:
– Я хотела бы познакомить вас с Ясифом Хассаном, другом моей семьи, оставшейся дома, – сказала она. – Он из Корчестерского колледжа.
– Я знаком с Дикштейном. – заметил Хассан. Он обменялся рукопожатиями с новоприбывшими.
– Вы из Ливана? – спросил его Ростов.
– Из Палестины.
– Ага! – оживился Ростов. – И что вы думаете о плане разделения страны, предложенном Организацией Объединенных Наций?
– Он совершенно неуместен, – ответил араб. – Британцы должны уйти, а моя страна обретет демократическое правительство.
– Но тогда евреи окажутся в ней в меньшинстве, – возразил Ростов.
– Они меньшинство и в Англии. Неужели поэтому они должны объявить Сюррей своим национальным домом?
– Сюррей никогда им не принадлежал. В отличие от Палестины, которая когда-то была их родиной.
Хассан элегантно пожал плечами.
– Это было в те времена… когда Уэльс принадлежал Англии, англичане владели Германией, а французские норманы обитали в Скандинавии. – Он повернулся к Дикштейну: – Вам свойственно чувство справедливости – что вы об этом думаете?
Дикштейн снял очки.
– Здесь не идет речь об исторической справедливости. Я хотел бы обладать местом, которое мог бы назвать своим.
– Даже если для этого вы должны завладеть моим? – спросил Хассан.
Ознакомительная версия.