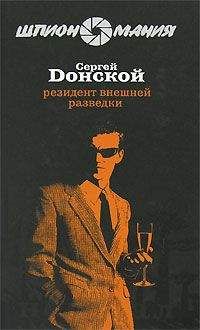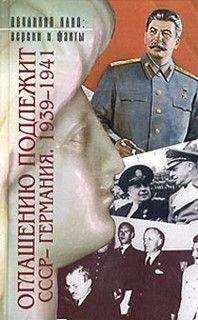И хотя рейхсканцелярия была переоборудована, Розенберг узнавал те же массивные столы, диваны, кресла, обитые светло-коричневой кожей, тот же гигантский глобус, стоявший перед большущей картой Советского Союза на всю стену. Не заметил он лишь посмертной маски Наполеона, неизменно висевшей за креслом фюрера. Она куда-то исчезла. Зато по-прежнему на месте, высунув из-под стола свирепую морду, у самых ног фюрера лежала громадная овчарка.
Чтобы скоротать время, Розенберг принялся не спеша разглядывать человеческие лица. На фюрера старался не смотреть: наизусть изучил все его жесты, слова... Ближе всех к «обожаемому» с надменным выражением на лице сидел генерал Кейтель. Ему было труднее, чем остальным: часто клонило ко сну, а расслабиться нельзя. То снимал, то надевал пенсне — и все же задремал... Генерал Йодль тоже не удержался от дремоты, клюнул носом, но, тут же очнувшись, растерянно посмотрел по сторонам, будто застали его на мелком воровстве... Риббентроп, затянутый в черный фрак, сидел вытянувшись, будто проглотил палку, и верноподданнически поедал глазами фюрера. Единственным достоинством гитлеровского дипломата было то, что умел терпеливо высиживать долгие сборища, какие бы нудные речи на них ни произносились. Он порывался что-то сказать, но всякий раз Геринг, сидевший с ним рядом, осаживал его и, не вытерпев под конец, процедил сквозь зубы: «Уймись ты, паркетный шаркун!» Рейхсмаршал боялся, что сей кретин от дипломатии, угодничая, даст фюреру новую пищу для разговора, и тогда того не остановишь до самого скончания века. Утихомирив соседа, Геринг подложил под голову пухлую руку, унизанную драгоценными перстнями, сладко засопел... Такое Гитлер мог простить только человеку, которого называл своим преемником.
Однако этого «преемника» в последнее время заметно оттеснил Мартин Борман, обергруппенфюрер СС, он же рейхсляйтер, возглавивший партийную канцелярию. Он, конечно, не похож ни на фанфарона Геринга, ни на «дипломата» Риббентропа и ни на колченогого Геббельса, мнившего себя новоявленным Цицероном. Борман не любил лезть в глаза, хотя приучил Гитлера к тому, что тот ни минуты не мог обойтись без него, не отпускал его от себя во время любого приема и беседы. Он обычно сидел у портьеры, положив крупные волосатые руки на небольшой столик, и не всякий, кто входил в этот кабинет, замечал его, так как даже одежда сливалась с драпировкой стен. Незаметный для других, но видимый рейхсканцлеру со всех сторон, ибо он стал тенью фюрера,
Розенберг, пошарив по кабинету глазами и не отыскав Бормана, удивился. Но тут же отвлекся, заметив, как Риббентроп, покосившись на Геринга, поостерегся открыть рот. Благоразумие все же взяло верх. Видимо, вспомнил, как в прошлый раз Гитлер ходил мрачнее тучи, ища виновников поражения армий вермахта на Волге и Дону. Разве не тот же беспардонный Геринг, брякнул при фюрере: «Это ты, Риббентроп, растрезвонил: если мы атакуем, Россия в течение восьми недель будет стерта с географической карты... Война — это не паркет. На ней не с реверансами расшаркиваются, а заклятого врага уничтожают!»
Фюрер вроде бы пропустил эти слова мимо ушей, но в самый неподходящий момент мог их вспомнить. А ведь Розенберг похлестче сказал: «Германия за неделю поставит Россию на колени...» Да и Геринг распинался, что в войне против Советов немцы будут воевать как по расписанию. Риббентроп себя нисколько не винил, считая, что все началось с самого Гитлера. Не он ли на последнем перед войной совещании в Берхтесгадене, в июне 1941 года, прощаясь с военными, кокетливо помахал им ручкой: «Желаю успеха. Увидимся в Москве на параде...».
Розенберг покосился на сидевшего сбоку Гиммлера — не поймешь, дремлет или бодрствует: толстые стекла зеленоватых очков скрывали выражение полуприкрытых прищуренных глаз. Как он часто меняет очки! Каждый день новенькие в роговой оправе или золотое пенсне, изготовленные фирмой когда-то известного всей Европе оптика Финкельберга. Наверное, на всю жизнь запасся оправой, стеклами и пенсне, если его же костоломы громили магазины фирмы несчастного еврея. Розенберг всегда завидовал искусству Гиммлера скрывать свои чувства, уметь думать о чем-то постороннем, тешившем его сердце.
Действительно, рейхсфюрер СС воспроизводил в тот момент в памяти подслушанный разговор Муссолини. «Гитлер вел бесконечную, бесполезную болтовню на приеме, — жаловался он Чиано, зятю и министру иностранных дел своего правительства. — В течение пяти часов он говорил о Гессе, происках англичан, линкоре «Бисмарк» и еще сорок минут рассуждал о войне и мире, о христианстве и философии, об искусстве и истории, но обо всем поверхностно. Дилетантски! Он мне и рта не дал раскрыть, болтун безмозглый!» Гиммлер усмехнулся своим мыслям: для темпераментного итальяшки слушать «обожаемого» — сущее наказание, особенно если этот фразер мнит себя отцом фашизма. Надо бы фюреру раскрыть глаза на своего старинного наставника.
Гитлер вдруг прервался на полуслове, видимо заметив заснувших бонз, и велел принести всем кофе. Неся в руках блестящий поднос с дымящимся напитком, вошел жилистый слуга Ланге. Как всегда шумный и развязный, Геринг схватил сразу две чашки, тут же опорожнил их и запросил еще. Остальные довольствовались одной чашкой, а фюреру принесли в стакане жиденький чай.
Улучив момент оживления, Розенберг все же взглянул на свои часы — шел третий час ночи — и ужаснулся: сколько еще тут проторчишь! Домой придешь, с женой объясняйся — где да с кем пробыл так поздно? Потом начнет нюхать костюм, и впитавшийся в материю сигаретный дым покажется ей запахом тонких французских духов. А это все от сигарет Геринга, которые ему поставляет какая-то итальянская фирма. Не скажешь же этому жирному борову, чтобы не обкуривал его. Засмеет, кретин!..
Близкое окружение знало, что Гитлер полуночник: он, как правило, не ложился спать раньше четырех часов утра, проводя время в беседах с кем угодно, будь то с приближенными или генштабистами, адъютантами или даже со своими стенографистками. А после спал, как сурок, всю первую половину дня, и никто не имел право его побеспокоить. «Если б вы знали, друг мой, — пожаловался однажды Розенбергу Кейтель, пришедший просить у рейхсминистра приглядеть уютное, тихое поместье на землях Западной Украины, — как это неудобно для нас, военных! На фронте-то не спят, бои идут и днем и ночью, а наш обожаемый проводит в постели почти весь день, когда надо принимать решение, а потом бывает поздно. По ночам же от него покоя нет...»
Судя по всему, сегодня фюрер не собирается садиться на своего любимого конька — рассказать о первой мировой войне, когда ефрейтором лежал в сырых окопах и его осыпало градом осколков мин и снарядов.
Розенберг испуганными глазами глянул на фюрера: в каком он сейчас настроении?.. Кто сказал, что у Гитлера глаза пустые? Неправда! Они, признаться, мутные, но осмысленные, даже демонические, подозрительно ощупывают каждого. Кто пустил слушок, что вождь — шизик? Ложь! Он просто неуравновешенный, часто переходит от крика до шепота или тупого отчаяния. У него же феноменальная память! Он находчив, может принять смелое решение, граничащее с сумасбродством, не считаясь ни с чем, даже если погибнут миллионы немцев, — лишь бы утвердить свое собственное «я».
Фюрер велик! Его величие в том, что он замечает умных людей, приближает их к себе... Заметил же он его, фольксдойча Розенберга, и сделал его своим идейным оруженосцем. Не кому-то, а именно ему фюрер доверился: «Ты знаешь, Альфред, мой гений создал «Майн кампф» — библию фашизма. Но почему мне не стать пророком, как Христу или Мухаммеду?! Моей волей управляют властители Вселенной, сокрытые в глубине космоса, и они дали мне право убивать, проливать моря человеческой крови, чтобы утвердить господство немцев, тысячелетнего рейха...» В эти минуты глаза Гитлера горели полубезумным огоньком, и сам он был будто не от мира сего. Но не это взволновало Розенберга — его обидело, даже возмутило в душе, что Гитлер целиком приписывал себе создание «Майн кампфа», в котором немало страниц, написанных Розенбергом и, конечно, Гессом.
Проворный Ланге давно унес чашки, и только один Геринг, смакуя, допивал последнюю, пятую, а когда и она опустела, повертел ее в руках, не зная, куда деть, и, увидев на краю стола фюрера его пустой стакан, решил поставить рядом с ним свою чашку. Такое мог позволить себе только Геринг, и он, подняв с дивана свою тушу и покряхтывая, направился к столу. Когда до стола оставалось шага три-четыре, раздался злобный рык, и ощетинившаяся овчарка кинулась к Герингу, успела цапнуть его за ногу.
— Блонди, фу! — прикрикнул на нее фюрер, и собака нехотя вернулась под стол.
Растерянный рейхсмаршал, побледнев как полотно, выронил чашку — раздался дружный хохот. Смеялись все: фюрер остался доволен верностью овчарки, а остальные, видимо, вспомнили его слова: «Моя Блонди — умница, плохих людей чует за версту».