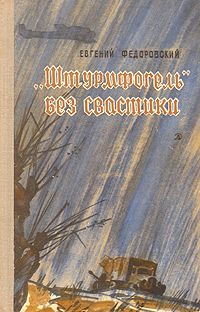Ознакомительная версия.
В авиационном военном журнале «Адлер» о нем напечатали пространную статью, где перечисляли все его заслуги перед рейхом. В Берлине сам фельдмаршал Мильх вручал ему Рыцарский крест с дубовыми листьями. Вайдеман теперь надулся как индюк.
— При моем полете следи за турбинами, — не глядя на Пихта, процедил он.
— Конечно, буду следить.
Вайдеман потоптался, видимо, хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и пошел на свою стоянку.
Ровно в шесть из леса донесся свист запускаемых двигателей. Прошла минута, другая, третья. Двигатели грохотали, то набирая, то уменьшая обороты. Небо светлело, хотя земля и лес оставались в темноте.
Пихт залез в кабину и подключился к рации.
— Я «Штурмфогель», к полету готов, — услышал он голос Вайдемана.
— Четвертый, вам взлет, — скомандовал Зандлер Пихту.
Пихт включил зажигание. Могуче и ровно затрещал мотор. Вспыхнули аэродромные огни. Двинув вперед сектор газа, Пихт начал разбег.
— Я «Штурмфогель», прошу взлет, — услышал он.
Пихт склонил машину в глубокий вираж и увидел в темноте леса два огромных огненных хвоста. «Штурмфогель» стремительно набирал скорость и высоту. На некоторое время Пауль потерял самолет из виду, но вскоре увидел серебристую точку, вспыхнувшую в лучах солнца. «Штурмфогель» несся, как жук-светлячок. Вайдеман разогнал самолет до максимальной скорости.
— Двигатели работают нормально, Альберт, — сказал Пихт.
— Благодарю. Сейчас вхожу в полупетлю, — отозвался Вайдеман.
Через двадцать минут «Штурмфогель» стал снижаться, оставляя за собой спиральный шлейф конденсирующихся паров. Самолет низко прошел над старым аэродромом и скрылся в лесу. Пихт повернул самолет к своей посадочной площадке.
В летную комнату Вайдеман вошел с посиневшим лицом.
— Дайте поскорее выпить. Комбинезон примерз к позвоночнику.
— Холодно было? — спросил Пихт.
— Дьявольски. На высоте страшный мороз. Я думал, что околею и не доберусь до земли…
Летчики помогли стянуть с Вайдемана меховой комбинезон и сапоги.
— Майора Вайдемана просит профессор Зандлер, — донеслось из репродуктора.
Вайдеман заторопился к выходу.
Полетов больше не предвиделось, и Пихт пошел в лес. Солнце бледным пятном проглядывало сквозь мокрые голые ветви. В воздухе висела мучительная напряженная тишина. С черных вязов бесшумно стекали мутные капли. Вдали, по автостраде, тянулась жирная лента грузовиков. В кузовах покачивались матово-серые шлемы солдат. Грузовики шли один за другим. И солдатам не было конца. И танкам с экипажами в черных комбинезонах. И бронетранспортерам, окрашенным под цвет поздней весны.
Пихт шел по лесу, бесцельно глядя на чужую, холодную землю. Под сапогами сочились грязные ручьи. Под шинель забирался сырой ветер.
Далеко-далеко, где-то у пределов памяти, теплилась его собственная, настоящая весна.
Он помнил ее, полную света, солнца, зелени, неба и жаворонков. Помнил блестящие от долгой работы лемеха плугов. Они поднимали пашни, распугивая глянцевых черных скворцов. В логах шумели речки, качались ивы, и по вечерам, когда остывал весенний день и тишина опускалась на деревни Подмосковья, далеко неслись бойкие девичьи песни.
Все умирающее в той весне давало жизнь новым цветам и краскам. Круговорот природы был так же естествен, как счет простой человеческой жизни. Но для него, разведчика Павла Мартынова, прожитое не измерялось годами. Не быстротечность времени накладывала морщины. Нервы, напряжение в ожидании опасности, в постоянной, даже во сне, страшной работе головы и сердца вели другой счет прожитому.
Он прижал лоб к мшистому стволу вяза. Дерево, налитое влагой, слабо постанывало. Кое-где не стаял снег. Он лежал грязными, серыми шапками у пней, у куч опавшей листвы. Черная ветка задела лицо и уронила холодную каплю.
Пихт оторвался от вяза и медленно побрел в темную глубину леса, чистого, опрятного и холодного, как парк. Этот лес не знал тех песен, что пел лес его родины; эта голая земля с гниющими в компостах листьями несла в себе другие запахи. И ветер гудел не тем гулом…
Москва снова далеко отодвинулась от него, и то, что он там все же был, казалось неправдоподобным, шатким и призрачным, как сон. Чем занимается сейчас Владимир Николаевич Зяблов, его Директор? Конечно, обдумывает какую-нибудь новую ребусную загадку, за кого-то беспокоится, кого-то старается выручить из беды. Ведь таких, как Павел, у него, наверное, немало. И каждый по-своему близок ему, как хорошему командиру дорог солдат.
Что поделывает Сеня Бычагин? Подучивает немецкие диалекты или прыгает с парашютом? Тренируется на рации или стреляет в цель? Быстрей бы он приезжал сюда! Воевать вдвоем легче. Любопытно, что придумал Зяблов, чтобы устроить его на экспериментальный аэродром Лехфельд? Конечно, в Москве снабдят его соответствующими документами. Но какая ему предстоит проверка в имперском управлении безопасности. Порядок этой проверки Пихт изучил досконально. Разветвленные, как конечности спрута, учреждения имели свои собственные методы исследования жизней и душ граждан рейха. Каждый поступающий на секретный завод изучался в шести отделах — в уголовной полиции, военном управлении, государственной тайной полиции, разведывательной службе за границей, в управлении по выявлению мировоззрения врагов и в управлении по расовым вопросам. Кроме того, нового работника испытательного аэродрома Лехфельда проверяли соответствующие службы абвера и контрразведки люфтваффе…
Когда Пихт пересек лес и вышел на опушку, уже вечерело. Заката не было, просто кругом стало темнить. Вдали он увидел человека и пошел к нему.
— Добрый вечер, господин офицер, — первым приветствовал его пожилой мужчина в егерской куртке, потертых кожаных штанах и гольфах.
— Здравствуйте, — ответил Пихт.
— Гуляете? — подозрительно спросил мужчина.
— Как видите… Я люблю лес.
— О, все люди должны любить лес, — менторски произнес мужчина.
— Вы здесь живете?
— Да. На ферме у Лехфельда.
— Вы крестьянин?
— Что вы? — обиделся мужчина. — Я дорффюрер.[21]
— Прошу прошения, — пробормотал Пихт и заспешил уйти прочь от этого благообразного «фюрера».
С тех пор как Пауль вернулся с фронта, Эрика проницательным женским чутьем уловила, что он в чем-то изменился, почужел. Она тянулась к нему всей душой, но иногда встречала холодное, даже враждебное к себе отношение. Она мучилась, страдала и наконец решила поговорить с ним серьезно. Пауль, думая о чем-то своем, снял шинель и фуражку, машинально поцеловал ей руку.
— Я вижу, ты снова не в духе, Пауль? — холодновато спросила Эрика. — Или я стала безразлична тебе?
Пауль удивился ее тону и взглянул ей в глаза — они быстро наполнялись слезами. «Белокурые красивые волосы, большие красивые синие глаза большие, будто приклеенные ресницы, капризные губы — и все чужое», — подумал он, и вдруг ему стало жалко девушку: ведь она в сущности, добрая, милая, верная.
— Я не знаю что со мной происходит, — искренне сознался Пихт. — Устал.
— Может быть, папа даст тебе более легкую работу?
— Нет, Эрика, меня мучает совсем другая усталость. Мы начинаем уставать от войны. Эрика прижалась к нему щекой.
— Я вижу, Пауль, понимаю…
— Нас бросают в пекло, убивают, калечат, нам лгут, с нами не считаются.
— Бедный мой Пауль! Я так люблю тебя, я думаю только о тебе, — проговорила Эрика. — Фрау Шольц-Клинк, эта первая женщина рейха, писала мне, что сейчас надо встать рядом с мужчиной — настоящим арийцем и рожать больше детей, будущих солдат фатерланда. А я не хочу, чтобы моими детьми распоряжались чужие люди, чтобы их мучили и убивали на войне.
Пихт удивленно взглянул на Эрику:
— Будь осторожна, детка. Тебя могут схватить черти.
— Я хочу уехать из Германии куда угодно. Только подальше от войны. В Швейцарию, Бразилию, Африку, — мне все равно. Только спасти тебя. Только спасти наше счастье.
— Глупенькая… — Пихт ласково потрепал девушку по щеке. — С самого дня рождения каждый мечтает о таком островке, но никто не находит его. Мы все, как белки, влезаем в одно колесо и вертимся там до самой смерти. А смерть уже в пути к нам.
— Неужели русские победят?
— Россия оказалась более сильной, чем представлял себе фюрер.
— Боже, эти азиаты уничтожат страну, как Аттила. — Эрика взяла в ладони лицо Пихта: — Мне страшно за тебя, Пауль. Я буду молиться богу.
— Какому богу? — усмехнулся Пихт. — В нынешней Германии нет даже приличного бога. Христианство мы назвали религией иудеев и у языческих предков стащили Вотана — бога ветра, бури и войны, объявив это буйволоподобное чудовище своим богом…
Ознакомительная версия.