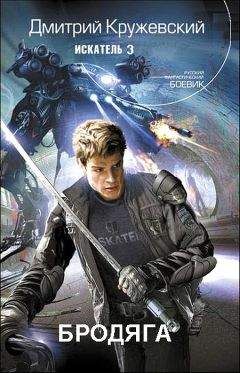Штатский снова схватил его за плечо.
– Вы отрицаете, что вы познакомились с генералом Кисикавой во время войны?
– Нет.
– Вы отрицаете, что он является частью японского промышленно-милитаристского аппарата?
– Он был солдат.
Правильнее было бы сказать, что он был воин, но эти нюансы ничего не значили для американцев, с их торгашеским мышлением.
– Вы отрицаете вашу близость с ним? – не унимался штатский.
– Нет.
Майор Даймонд вновь перехватил нить допроса. По его тону и выражению лица было ясно, что он ни в чем не уверен и искренне пытается разобраться.
– Ваши документы были фальшивыми, не так ли, Николай?
– Да.
– Кто помог вам получить фальшивые документы?
Николай молчал.
Майор кивнул головой и улыбнулся.
– Понимаю. Вы не хотите впутывать в это дело друга. Это понятно. Ваша мать была русской, не правда ли?
– Русской подданной. В ней не было ни капли славянской крови.
Тут вмешался штатский:
– Так вы признаете, что ваша мать была коммунисткой?
Николай с горькой иронией подумал о том, что его матери даже в могиле не удалось избежать общей участи несчастных славян.
– Майор, в той степени, в какой моя мать вообще интересовалась политикой, – она чтила политические права Аттилы. – Николай еще раз повторил слово “Аттила”, неправильно, с ударением на последнем слоге, так, чтобы поняли американцы.
– Ясно, – сказал штатский. – И, я полагаю, вы будете также отрицать, что ваш отец был нацистом?
– Вполне мог быть. Насколько я знаю, он был достаточно глуп для этого. Впрочем, я никогда не видел его.
Даймонд кивнул.
– Таким образом, из всего, что вы сказали, Николай, следует, что наши обвинения по большей части верны.
Николай вздохнул и покачал головой. Два года он проработал с американцами, постоянно сталкиваясь с их мышлением, но не мог бы сказать, что понял эту упрямую склонность идти напролом, стараясь загнать факты в жесткие рамки удобных для них суждений.
– Если я вас правильно понял, майор, – а я, честно говоря, не особенно об этом забочусь, – вы обвиняете меня в том, что я в одно и то же время являюсь коммунистом и фашистом, близким другом генерала Кисикавы и его убийцей, а также японским милитаристом и советским шпионом. И вы, кажется, думаете, что это русские организовали убийство человека, которого они намеревались подвергнуть бесчестному судилищу, с тем, чтобы на весь мир раструбить о своем подвиге. Простите, майор, ваш здравый смысл не протестует против этих обвинений?
– Мы пытаемся вникнуть в каждую мелочь, распутать все незначительные узелки, – заметил майор.
– Неужели? Какое подвижничество!
Рука штатского больно впилась ему в плечо.
– Мы не нуждаемся в идиотских рассуждениях! Твои дела плохи, приятель! Эта страна находится в зоне военной оккупации, а ты вообще не являешься гражданином ни одного государства! Мы можем делать с тобой все, что нам только заблагорассудится, и ни одно консульство или посольство не станет вмешиваться, никто не встанет на твою защиту!
Майор покачал головой, и штатский, разжав руку, вновь отступил назад.
– Не думаю, что разговор в таком тоне может принести нам какую-либо пользу. Совершенно очевидно, что Николай не из тех, кого легко запугать.
Он осторожно улыбнулся уголком рта, почти не раздвигая губ.
– И все же мой помощник прав. Вы совершили серьезное преступление, которое карается смертью, Однако положение ваше не безвыходно. Вы можете оказать нам помощь в нашей борьбе против международного коммунизма. От вас потребуется только небольшое желание сотрудничать с нами, и дело легко обернется в вашу пользу.
Николай узнал этот тон. Как и все американцы, майор по натуре своей был торгашом; все для него имело свою цену, и достойными людьми он считал тех, кто умеет хорошо обстряпывать свои делишки, совершая выгодные сделки.
– Вы слушаете меня? – спросил Даймонд.
– Я вас слышу, – ответил Николай, вкладывая несколько иной смысл в свой ответ.
– Ну и? Вы согласны сотрудничать?
– То есть, вы имеете в виду, подписать признание?
– Это и еще кое-что. В признании ответственность за убийство возлагается на русских. Мы хотим также знать кое-что о людях, которые помогли вам проникнуть в “Сфинкс/FE”. И, кроме того, все о русских разведчиках, которые здесь действуют, и об их связях с не выявленными до сих пор японскими милитаристами.
– Майор! Русские не имеют к моим поступкам ни малейшего отношения. Поверьте, мне глубоко безразлична их политика и все, что они здесь предпринимают, точно так же, как и все то, что делаете вы. Вы – американцы и русские – всего лишь две, немногим отличающиеся друг от друга, формы одного и того же явления: деспотизма посредственности. У меня нет причин защищать русских.
– В таком случае, вы подпишете признание?
– Нет.
– Но вы ведь сами только что сказали…
– Я сказал, что не стал бы защищать русских или помогать им. Но я не собираюсь также помогать и вашим людям. Если у вас есть намерение казнить меня – проведя через издевательскую процедуру военного суда или минуя оную, – прошу вас, приступайте.
– Николай, мы добьемся того, что вы подпишете это признание. Прошу вас, поверьте мне.
Зеленые глаза Николая бесстрастно смотрели на майора.
– Я выхожу из разговора.
Он опустил глаза и вновь сосредоточился на расположении камней на доске, каким оно оставалось в его памяти, отложенное на время беседы. Он снова принялся обдумывать возможные варианты ответных ходов на то, что представлялось ему весьма хитроумным “тенуки”.
Майор и толстяк в штатском обменялись кивками, и последний вынул из кармана черный кожаный футляр. Николай не шевельнулся, пребывая все в том же глубоком раздумье, в то время как сержант Военной полиции закатал ему рукав, а штатский поднял шприц, удостоверясь, что в нем не осталось воздуха, и струя, вырвавшись из иглы, описала кривую в затхлом воздухе камеры.
* * *
Когда впоследствии Николай пытался восстановить события последующих семидесяти двух часов, в памяти его, точно выхваченные наугад кубики мозаики, возникали отдельные ощущения – иногда связанные в хронологической последовательности, иногда растворенные в зыбком дурмане беспрерывно накачиваемых в него наркотиков. Это был кинофильм, в котором он одновременно играл роль и актера и зрителя, – пленка его одновременно и еле ползла, и крутилась со страшной скоростью. Отголоски одних сцен и эпизодов ленты накладывались на образы других и совмещались с отдельными кадрами, вспыхивавшими в глубинах подсознания, которые скорее ощущались, нежели осознавались им, когда несфокусированное, будто наведенное на резкость неумелым оператором, изображение словно расплывалось, а звуковое оформление текло замедленно и отдавалось в ушах вязкими, неразборчивыми, очень низкими и глухими нотами.
Как раз в это время американские разведывательные службы начали свои эксперименты с применением наркотиков на допросах; часто они совершали ошибки, приводившие к расстройству рассудка жертвы. Дородный “доктор” в штатском опробовал на Николае многочисленные химические вещества и их комбинации, в результате которых “пациент” его то неожиданно впадал в истерику, то в коматозное состояние и становился бесчувственным ко всему окружающему. Временами наркотики взаимно нейтрализовали друг друга, и тогда Николай делался совершенно спокоен, сознание его прояснялось, но реальность в его представлении как бы смещалась, и, хотя он с готовностью отвечал на задаваемые ему вопросы, ответы его абсолютно не соответствовали тому, о чем его спрашивали.
В течение этих трех дней, в те минуты, когда Николай ненадолго приходил в себя, его охватывала паника. Они подвергали химической атаке не только его мозг, но, быть может, и всю генетическую структуру его организма. Они калечили высшее по отношению к ним существо, сводя на нет титанические усилия природы.
Нередко он разъединялся с самим собой, точно глядя на себя откуда-то со стороны; в такие минуты Николай-зритель жалел Николая-актера, однако ничем не мог помочь ему. В те короткие промежутки, когда он мыслил разумно, он старался плыть по течению, подчиняясь всем чудовищным несообразностям, всем диким искажениям этого мира кошмаров, соглашаясь с ним и безропотно принимая все безумие своих восприятии и ощущений. Интуиция подсказывала ему, что борьба с этими пульсирующими в нем искажениями реальности приведет лишь к тому, что внутри него что-то оборвется, защелкнется от непомерного усилия и он никогда уже не найдет пути назад, к самому себе.
Три раза в течение этих семидесяти двух часов терпение людей, допрашивавших его, лопалось, и они позволяли сержанту Военной полиции продолжать допрос другим, более изощренным способом, применяя последнее имевшееся в его арсенале изобретение. Он входил в камеру с девятидюймовой брезентовой трубкой, наполненной железными опилками. Действие этого орудия было ужасно. Оно редко ранило поверхность кожи, зато ломало кости и разрывало внутренние ткани.