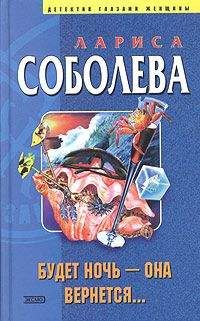— Никак нет, товарищ подполковник, — ответил Октай Чингизов, горько переживающий урок, только что преподанный ему начальником и учителем.
Любавин заметил состояние, в котором находится капитан, но успокаивать его не стал, это было не в его правилах. Он только сказал ему:
— Карлом Виттенбергом займется Сиволапов и сами местные немцы. Они разберутся до конца, где кончается его ложь и начинается правда. А у нас с вами другие дела. Наши под Берлином, и нам приказано двигаться вперед. Пора прощаться с берегами Одера. Нас ждут берега Шпреи.
Поезд прибыл в Белую Церковь
Наступил день отъезда. С утра к Семиреченко в номер позвонила Татьяна. Она рассказала ему о том, как насилу отделалась от участников ансамбля. Те уезжают через два дня и настаивали, чтобы она ехала с ними. Но она отговорилась тем, что ей хочется прибыть в Киев раньше, чтобы повидаться со своими родственниками. И вот она, наконец, свободна и от ансамбля, и от работы и чувствует себя так хорошо, как человек, у которого впереди пропасть свободного времени и много удовольствий.
— На вокзал я приеду минут за двадцать до отхода поезда. Это не поздно? Я буду на перроне у почтового киоска, вы меня сразу найдете, — сказала она.
Через час к Семиреченко в номер пришел молодой человек и вручил ему два билета на нижние места в мягком вагоне поезда Советабад-Киев.
— Вы принесли мне то, что обещал полковник Любавин?
— Да, — ответил молодой человек. Семиреченко взял с письменного столика черный портфель, открыл его, вынул несколько исписанных страниц бумаги, какой-то чертеж и передал сотруднику. Молодой человек взял документы, портфель и удалился в ванную комнату. Через несколько минут он вышел оттуда и, возвращая портфель, Семиреченко, пояснил:
— Эти документы вложены в плотную папку. Папка в портфеле. Внутри папка оклеена специальной фотобумагой. Если кто-нибудь попытается открыть папку, фотобумага окажется засвеченной. Вы в этом легко сможете убедиться, если при красном свете проявите бумагу. На ней неминуемо появятся пятна от пальцев, или какой-нибудь другой отпечаток, в зависимости от того, какой на нее будет падать свет.
— Благодарю вас, — сухо ответил полковник Семиреченко. Ему не по душе было участие в этом следственном эксперименте.
На вокзале Семиреченко встретился с Татьяной, и они заняли свои места в купе. Их попутчиками оказались какой-то лейтенант, судя по крылышкам на голубых погонах, — летчик и пожилой человек, как выяснилось позже, крымский виноградарь, приезжавший в Советабад за черенками знаменитого советабадского винограда.
Поезд уходил вечером, поэтому пассажиры сразу начали готовиться ко сну. Проводница разнесла по купе постели. Татьяна вышла из купе, дав возможность мужчинам переодеться в пижамы, а потом сама их выдворила на несколько минут.
Общего разговора не получалось. Старик, видно, сел на своего любимого конька — долго и подробно рассказывал летчику, как ему удалось вывести какой-то особый сорт крымского муската, который превосходит по своей сахаристости и аромату все ранее выращивавшиеся сорта. Летчик делал вид, что слушает, а сам листал какую-то объемистую книжку, с которой не расставался потом всю дорогу. Он собирался поступать в Военно-воздушную академию имени Жуковского и использовал время в дороге, чтобы подготовиться к экзаменам. Семиреченко сосредоточенно молчал.
— Что вы все молчите, Николай Александрович? — спросила Татьяна. — И вид у вас такой задумчивый, усталый.
— Я, действительно, сегодня очень устал, — ответил Семиреченко. — Всегда, когда собираешься уезжать, напоследок вспоминается десяток мелких, незавершенных дел, и это, естественно, доставляет всякие хлопоты.
— Впрочем, и я порядком устала сегодня, — заметила Татьяна. — Дела не ахти какие, то одно, другое, третье, — много их накопляется у женщины, когда она собирается в отпуск. Давайте отдыхать.
Пассажиры вскоре уснули. Только летчик, избавившись от своего словоохотливого собеседника, долго еще при свете матового фонарика над головой шелестел страничками учебника.
Утром проснулись рано.
День прошел, как всегда в дороге, в обмене впечатлениями о местах, которые проезжали. Станция Минеральные Воды порадовала их отличным мороженым в вафельных стаканчиках и прекрасной погодой.
Когда проезжали Ростов, поезд прогрохотал по огромному мосту, под которым плавно катил свои воды тихий Дон. Татьяна прильнула к окну, жадно всматриваясь в знакомые берега.
— Дон, Дон, батюшка Дон! — воскликнула она. — Вы бывали на Дону, Николай Александрович?
— Приходилось. Я ведь донбассовец.
— А здесь прошло мое детство. Здесь я училась, купалась летом в реке. Здесь, в Ростове, погибла от бомбежки моя мама.
Подстегиваемая воспоминаниями, Татьяна говорила без умолку. В ее рассказе мелькали, как в калейдоскопе, школьные подруги, веселые вечера в парке культуры, катание на лодке по Дону. Потом она снова вспомнила о погибшей матери и взгрустнула.
За окном вагона замелькали терриконы и высокие шахтные надстройки. Зелени было мало. Быстро мчащийся поезд поднимал ветер и заносил в окна черную пыль.
— Что это вы все молчите, Николай Александрович? — опять спросила Татьяна.
— Тоже вспомнил молодость, — ответил Семиреченко, и улыбка чуть тронула его губы. — Родные места проезжаю. Я ведь сам из Кадиевки, там и школу кончал, готовился стать механиком на врубовой машине, да подошел призывной, возраст и ушел в армию. Отслужил срочную и был направлен в Киев, в артиллерийское училище. В Киеве и познакомился со своей будущей женой. Она на медицинском училась. Окончил училище, получил назначение в Ленинград. Перед отъездом зарегистрировались мы с Наташей, а в Ленинград она ко мне приехала спустя год, когда сдала экзамены. Определилась она там по специальности в детскую лечебницу — она была педиатром. Хорошо жили мы с Наташей в Ленинграде, очень хорошо, — задумчиво повторил Семиреченко и снова умолк.
— Вы очень любили ее? — тихо спросила Татьяна.
— Очень, — все тем же тоном ответил Семиреченко. — Ее нельзя было не любить. Ее мир были дети. Она жила ими, и в ней самой, было что-то от этого ребячьего мира, такое искреннее, непосредственное, детское. Потом пришла война. Сынишке нашему тогда восьмой год пошел, и бабушка наша — Наташина мать, она гостила у нас с зимы — забрала с собой Валерку на лето к старшему брату Наташи, в Куйбышев. А вскоре война началась. Мне удалось вырваться на несколько дней в осажденный Ленинград. Командование части дало мне краткий отпуск, чтобы забрать жену и отвезти ее к ребенку. А Наташа не поехала. Она рассказывала мне, как входит она в нетопленные палаты своей больницы, как тянутся к ней исхудавшие и посиневшие от холода детские ручонки, как блестят у малышей голодным блеском глаза, когда няня разносит им по кроваткам тарелочки с жиденькой пшенной кашей. «Не могу их оставить, Николай, не могу», — говорила она мне. Я уехал из Ленинграда один. Задерживаться — нельзя было — шли бои, страшные бои. Так и не виделись мы всю войну — ни я, ни сын, ни Наташа. Весточки, правда, изредка друг от друга получали, знали, что живы.
— А потом? — спросила Татьяна.
— А потом кончилась война, все мы нашли друг друга и встретились в Киеве, жили у бабушки, пока я не получил отдельную квартиру. Нашли друг друга для того, чтобы вновь потерять. Заболела скарлатиной девочка у одной работницы с «Арсенала». Наташа про нее рассказывала — чудесная такая девчушка с голубыми глазами, золотистыми волосиками. Впрочем, у нее все дети были чудесными. Позвонили вечером домой, что Ксаночке — так звали девочку — стало хуже. Наташа тут же собралась и побежала. Такси не нашла, а на дворе ливень холодный, ну и… Да я, кажется, вам уже рассказывал об этом.
Семиреченко умолк. Молчала и Татьяна. А что ей было говорить?
Вспомнилось, как тоже в войну, там, в Германии, вместе с вечно пьяным обер-лейтенантом Зибертом она приехала в женский лагерь за «биографиями» — так называли гестаповцы несложную операцию, в результате которой для женщин-агентов приобретались чьи-то документы, чьи-то удобные биографии, после чего подлинные их обладательницы переставали существовать. Лагерный врач — эсесовка фрау Мильде — гостеприимна приняла фрейлейн Луизу и Зиберта и угостила отличным завтраком. Во время завтрака к ней зашла служительница одного из бараков и сказала, что у заключенной Ванды Дмоховской тяжело заболел ребенок.
— Утопите ее щенка, он перезаразит остальных. Возьмите его в изолятор и искупайте в ванне… — приказала фрау Мильде. — А эта польская шлюха родит еще десяток. Наши солдаты ей в этом охотно помогут!
Они весело посмеялись над «остроумной» шуткой лагерного врача. Вот и все, что вспомнила в эту минуту Татьяна о врачах и детях.