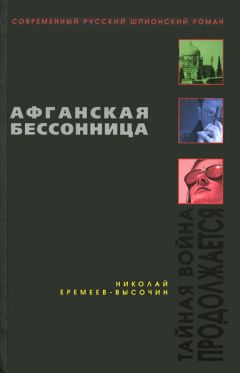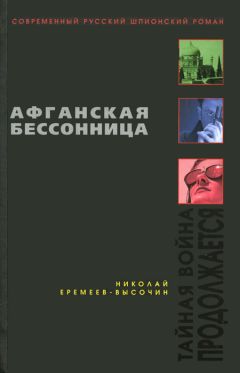Наверно, все. Хотя нет! Ирония или, если хотите, драма моей жизни состоит в том, что и я уже не тот человек, каким был в девятнадцать лет, и страны, которой я обязался служить, уже давно нет на карте. Но это система, в которую вход цент, а выход — доллар. Так говорил Хуансито, головорез из Матансаса, с которым я сидел в одной камере, — хотя, как мне говорили, и у русских уголовников есть примерно такая же присказка. А, вот что я еще не сказал, хотя это всего лишь деталь: перед засылкой в Штаты я три месяца провел в тюрьме Сантьяго, чтобы соответствовать образу кубинского диссидента.
Так что, поскольку выхода из нашей системы практически не было, незадолго до Рождества на меня вышел мой нью-йоркский связной, Драган. Это персонаж, и с невероятной историей — я как-нибудь расскажу о нем. Но сейчас достаточно будет сказать, что Контора просила меня через него придумать предлог, чтобы отлучиться на пару недель. Причем связи со мной большую часть времени не будет. Я сказал Джессике и Элис, своей помощнице в агентстве, что еду в Туркменистан. У меня действительно есть идея организовать переход через пустыню Каракумы на верблюдах. Лучше всего это делать зимой — летом там, по рассказам, закопанное в песок яйцо через пару минут уже сварено вкрутую. Так что я вылетел в Стамбул. Но оттуда полетел не в Ашхабад, а — по другому паспорту — в Москву.
Я бываю в Москве — я уже давно не говорю «дома», мой дом в Нью-Йорке, почти напротив Центрального парка — где-то раз в два-три года, иногда чаще. И, начиная с 1985 года, когда я впервые вернулся в Союз после засылки на Запад, каждый раз я переживаю шок. Потому что каждый раз я приезжаю в другой город, вернее, в другую страну.
Сначала, в 85-м, это был мир, который я за семь лет успел позабыть. Вспомнил!
В следующий приезд, в 87-м, проезжая по улице Горького мимо Театра юного зрителя, я увидел афишу: следующей премьерой было «Собачье сердце» по Булгакову. Я читал эту книгу на кальке, в почти слепой самиздатовской распечатке, наверное, пятый экземпляр. А следующий человек, который читал ее за мной, Витька Катуков, вылетел из-за нее из Института военных переводчиков, в котором мы тогда учились. Он оставил распечатку в портфеле в аудитории, когда во время перерыва ходил в буфет.
Потом была Москва начала 90-х, с мостовыми в выбоинах, как после бомбежки, с голыми витринами магазинов, очкастыми старшими научными сотрудниками, торгующими с рук пивом перед станциями метро, и пенсионерами, разложившими на продажу прямо на тротуаре ржавые гайки, куски проводов и водопроводные краны.
В следующий раз я приехал в город, подвергшийся нашествию английского языка. Магазины по-прежнему были пусты, но стены и крыши уже были захвачены «пепси-колой», «адидасом» и «сименсом».
Была еще Москва тысяч киосков вдоль всех тротуаров, на каждом свободном пятачке, в которых продавали все, что не сумели сбыть на Западе.
Потом киоски исчезли, улица Горького, ставшая снова Тверской, превратилась в подобие Мэдисон-авеню, Пиккадили-стрит или рю-Руайяль. В книжных магазинах, булочных и кулинариях моего детства теперь продавали автомобили «Шевроле», часы «Пьяже» и кристаллы Сваровски. Ночью подсветке фасадов мог бы позавидовать Рим, а по количеству «Мерседесов», «БМВ», «Ауди» и «Лексусов» с Москвой не сравниться ни Берлину, ни Вене.
В этот раз, две недели назад, когда встречавшая меня машина ехала из Внукова на конспиративную квартиру в переулках у Пречистенки, я, уже не ожидавший с последнего приезда увидеть что-то новое, замер. Мы проезжали мимо Дома на набережной, в котором когда-то жила кремлевская номенклатура. Его крышу, которую некогда по праздникам гордо венчало красное знамя, теперь украшала вращающаяся эмблема «Мерседеса». Это была финальная точка в соревновании двух систем.
В Конторе меня курирует человек, который кому-то тоже уже знаком. Его кодовое имя — Эсквайр, но про себя я зову его Бородавочник Не потому, что он похрюкивает и питается кореньями, вырывая их длинным носом, а из-за бородавок, сразу выделяющих его лицо из множества других. Узнавая его получше, вы обнаружите, что у Эсквайра есть и другие качества, мешающие ему потеряться в толпе современников. В частности, быстрый и острый ум, которым он пользуется по назначению, в качестве холодного оружия. Еще я подозреваю, что ему нравится производить на окружающих отталкивающее впечатление, — во всяком случае, этим он владел в совершенстве. Однако что касается наших отношений, упрекнуть мне его не в чем. Можно было бы даже предположить, что он относится ко мне хорошо — настолько, насколько можно сказать о бородавочнике, что он хорошо летает.
Эсквайр — меня из аэропорта сразу привезли к нему — хмыкнул, когда я выставил перед ним на стол литровую бутылку двенадцатилетнего «Чивас Ригал», купленную в самолете.
— Это ты правильно, — сказал он. — У нас есть, что обмыть.
Он полез в ящик стола, достал коробочку и открыл ее. На ворсистой подушечке лежал серебряный крест с закругленными концами. Я знал, что это — орден Мужества, которым меня наградили за лондонскую операцию прошлого года. Я достал его из коробочки. Это было странное чувство. Поясню на примере.
Пару лет назад я пытался организовать рай для дайверов на одном из маленьких независимых архипелагов Полинезии, не буду говорить, каком именно. Чтобы наладить контакт с местными властями, я привез туда два громадных ящика одноразовых шприцов, на дефицит которых мне намекнули в переписке. С моим проектом ничего не получалось, но перед отлетом местный министр здравоохранения и туризма надел мне на шею бусы из ракушек, переливающихся всеми цветами радуги. Устроившись в салоне первого класса, я, естественно, сунул ожерелье в сумку, а дома повесил его на гвоздик в прихожей. Ракушки стали быстро собирать пыль, и Джессика убрала их в какую-то коробку. Так вот, из последующей переписки с представителями этого суверенного государства стало ясно, что эти бусы — высший знак отличия, который местные граждане могли получить в конце деятельной и полной самоотречения жизни во благо отечества. Это к вопросу о фетишах и символах.
Эсквайр уже разлил виски по стаканам — он помнил, что я пил виски чистым, а себе добавил минералки.
— Извини, что награду тебе вручают не в Кремле, — сказал он в качестве поздравления.
— Переживу.
Мы чокнулись и выпили. Большинство людей хорошее виски как-то смакуют, причмокивают. Бородавочник же просто налил глоток жидкости в соответствующую полость в своем теле и захлопнул губы. Они у него были такие тонкие и сжимались так плотно, что их, собственно, и видно-то не было. На лице моего начальника рот занимал не больше места, чем одна из глубоких морщин на его высоком лбу интеллектуала. Даже меньше — морщины все же длиннее.
— Ты, наверное, задаешься вопросом, зачем я тебя сдернул, да еще надолго? — спросил Эсквайр.
Я внимательно посмотрел на него. Тот ли это момент, которого я давно жду, чтобы наконец выложить все начистоту? Но разве с Бородавочником можно было поговорить по-человечески? Это же была хитроумнейшая и сложнейшая шифровальная машина, где любая информация теряла первоначальный вид, многократно перекодировалась и возвращалась в виде, в котором прочитать ее было уже невозможно. Да и выражение лица моего куратора выдавало крайнее нежелание впускать в себя чужие проблемы и сомнения. Я уже говорил, у него как будто к верхней губе был навечно прилеплен кусочек говна, который он был обречен нюхать. Нет, этот блестящий знаток людей в качестве исповедника карьеры бы не сделал. Потому я молчал. Молчал и Бородавочник.
— Что скажешь? — не выдержал первым он.
Эсквайр уже понял, что я хочу поговорить не только о новом задании. Он не был уверен, хватит ли у меня духу. Но, если хватит, он от этого разговора уходить не собирался.
— Если честно, Виктор Михайлович, у меня к вам не один вопрос, — спокойно, не возбуждаясь, медленно артикулируя каждое слово, сказал я.
Бородавочник развел руками с видом человека, который готов слушать меня до утра, а когда кончится выпивка, он сам сгоняет в ближайший магазин за пивом. Но помогать мне провести неприятный разговор наводящими вопросами он не собирался.
Хорошо!
— Не знаю, надо ли мне напоминать вам свою биографию? — начал я. Бородавочник учтивым наклоном головы дал мне понять, что он с радостью выслушает все, что я сочту нужным ему напомнить. — Я работаю в Конторе больше двадцати лет. Из-за…
Я хотел сказать «из-за вас», но это было бы не только обидно, но и несправедливо.
— Из-за этого моего рода деятельности я потерял семью. Мне плевать, что пару раз в году я рискую жизнью. Более того! Поскольку с каждым разом увеличивается не число друзей, а число врагов, возможно, опаснее всего не операции, когда я начеку, а как раз мои самые обычные дни.