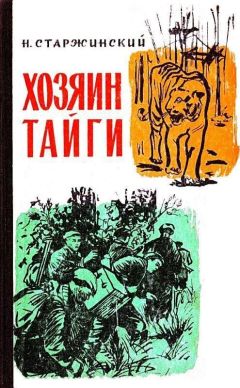Возчик отряда Фома, носивший странную фамилию Грех, пыхтел и чавкал, жуя пельмени, и при этом болтал без умолку. Весь вечер рассказывал он всякие необыкновенные истории о своей родной деревне в глубине тайги. — Ну и что же, — подхватил Фома, потряхивая рыжеватой бороденкой и лукаво подмигивая Мише, — приручил ее, вот и таскала. Очень обыкновенно. Ух, и ловкая, шельма, до чего ловкая, ребята! — Фома чмокал, рассказывая, и тряс головою, отчего щеки его и бороденка, реденькие усики и ухмыляющиеся толстые губы ходили ходуном. Его прищуренные хитроватые глаза загорались жадным блеском, когда отворялась дверь и хозяйка вносила новое блюдо. Он тянулся через весь стол к заливному поросенку, подхватывал по дороге, как бы между прочим, кусок колбасы, Придвигал к себе поближе блюдо со студнем и жевал, не переставая.
— Гнездо на полатях устроила и тащит, и тащит… — продолжал Фома самым серьезным тоном. — Осенью, глядь-поглядь, пуд орехов заготовлен, как по заказу.
— А белку ту не Жучкой ли звали? — опросила Бурденкова и закашлялась от смеха.
— Ну и брехун! — вставил Панкрат, сердито усмехнувшись. — Видно, эта белка ему и дом сторожила…
— И корову пасла, — добавил, поощрительно улыбаясь, Яков Мешков.
Землемер, попыхивая трубкой и сдержанно посмеиваясь в прокуренные усы, прислушивался к шутливому разговору. Сам он говорил мало (такой был отроду, а тайга и вовсе приучила к молчанию).
— Всю зиму орехи ели, а продали сколько!.. — говорил Фома, не обращая внимания на насмешки. — Орехов вокруг Фомичевки, что травы! Или ягоду взять, — ведь землянику, малину у нас ведрами собирают.
— А малину ему медведь таскал, — пояснил Миша.
— Зачем медведь? Я, бывало, как корову подоят, нацежу кружку парного и за дверь, а лес тут же, за порогом, — щиплю ягоды и молоком запиваю.
— Землянику надо умеючи собирать, — заметил Мешков, сияя всем своим добрым, приветливым лицом, заросшим густой русой бородой. — У нее листья растопырятся, а ягода под низ хоронится, сверху и не видно.
— Ерунда все это, — проворчал Фома. — Какое уж там уменье, сама тебе в руки лезет.
— Если хорошо так было в твоей Фомичевке, то зачем же уехал оттуда? — поинтересовался Миша.
— Уж так-то хорошо, уж так-то любо! А вот ушел!.. — Фома с недоумением развел руками. — Думал, в другом-то месте лучше будет. Да так и скитаюсь с этих пор. Никак не приноровлюсь к новой жизни.
— Ишь ты, «не приноровлюсь», — передразнил его Саяпин, сверкнув глазами. — Бездельник ты, вот что. Потому и бродяжишь по белу свету, и все без толку.
Известно было, что Фома не жил долго на одном месте. Придет в какое-либо село гол как сокол, подрядится лес сплавлять или пристанет к артели старателей и ломает хребет днем и ночью, не жалея сил. Смотришь, через год, через два он уже обзавелся каким ни на есть хозяйством, жилье соорудил, лошаденку немудрящую завел. Но ненадолго все это. Хоть и хитрый мужик, а обязательно на чем-нибудь да сорвется, втравят его в какое-нибудь непутевое дело, погорит он, задолжает, разорится, на все махнет рукой, избенку, лошаденку продаст, хозяйство прахом пойдет, и снова гол как сокол, я снова едет в другое место, «где получше», где «разбогатеть быстро можно». Из-за скитаний своих он и семьей не обзавелся, жил бобылем.
— А почему не вернешься в родные места? — поинтересовался Миша. — Ведь лучше их ничего, говоришь, не встречал.
— Это в Фомичевку-то? — ухмыльнулся Фома. — А туда, паря, обратной дороги нет. — Он подмигнул Мише и принялся, не торопясь, скручивать «козью ножку». — Забыл я теперича, как идти туда. Деревенька наша в самой что ни на есть глухомани таежной, об ней и начальству-то ничего не было известно.
— А как же подати и налоги? — усомнился Мешков.
— Эх, милый человек! Какие подати! Что ты! Собирать, собирали, помню, в прежние времена. И человек такой был, что обходил хозяев. Соберем по осени, сколько положено, а потом сами же сообща и пропьем. — Фома захохотал, засмеялись и другие.
— Ну, сам посуди, — продолжал Фома, затягиваясь самосадом и косясь на Мешкова. — Кто к нам туда пойдет? Леса кругом дремучие, болота зыбучие, пойди проберись. Вот оно как! Уйти оттуда — ушел, да и то не по дороге, а по тигриной тропе. Расступилась тайга-матушка: убирайся, мол, ежели не любо здесь. И сомкнулась обратно за плечами на веки вечные. А тропа та, видно, травой заросла, водой ее залило, буреломом завалило. И мыкаюсь я с этих пор по белу свету, как перекати-поле, все деревеньку свою старую ищу. Вот к вам теперь пристал, думал, поможете на след ее напасть.
— И все-то ты выдумываешь, — не выдержал Миша. — Нет такой деревни. Сам ее придумал, потому и Фомичевкой назвал.
— Нет есть, — посмеиваясь, повторил Фома. — Коли говорю, значит есть, только пути туда заказаны.
— Эх ты, несознательный элемент! — рассердился Миша. — Все о такой деревне мечтаешь, где бы никто не мешал в богатеи выйти.
— А я и здесь выйду. Изловчусь и выйду.
— Не выйдешь, Фома, условия у нас неподходящие, — суховато заметил Кандауров. — Вот если бы старое время вернуть для тебя, тогда еще, может быть…
— Верно, верно, Фома, — поддержал Кандаурова Миша и отчужденно глянул на возчика. — Смотри, ноги поломаешь на этих своих тигриных тропах. Только о себе и думаешь, только о себе и говоришь…
— А ты об ком думаешь?.. Ну, об ком?..
— Да ты пойми, ведь мы — землеустроители! Понятно тебе? Землеустроители, — повторил Миша раздельно. — Всю землю должны устроить, в порядок привести.
— Как же, устроишь ее. Устроитель!
— А вот и устроим! Только не так нужно жить, как ты живешь. Взять Ли-Фу… Он тоже уехал из родных мест, как ты на своей Фомичевки, но не для себя счастья ищет, — мечтает помочь родному народу. — И Миша принялся рассказывать о замысле Василия Ивановича. В этот момент послышался осторожный стук в дверь.
«Он, — подумал Миша. — Легок на помине! Что-то скажет Владимир Николаевич? Как бы не рассердился».
Утром из тайги вернулся Ли-Фу. Миша видел его и пригласил на вечеринку, никому не сказав об этом. Несмотря на все свои хорошие качества, Ли-Фу для них человек посторонний. Поэтому Миша решил поставить землемера перед совершившимся фактом, но из осторожности позвал Ли-Фу не к шести часам, как было назначено для всех, а к восьми, рассчитывая, что к тому времени вечеринка будет в разгаре, все придут в благодушное настроение и только обрадуются новому члену компании. На вечеринке Миша решил попросить землемера, чтобы тот нанял Ли-Фу на работу в отряд. Он сам увидит, что это за человек! Кроме того, Миша надеялся, что Василий Иванович расскажет все, что ему известно, о покушении и о людях, которые могли его совершить.
Миша вскочил и побежал к двери. Это в самом деле был Ли-Фу. Несколько смущаясь, Миша ввел его в комнату.
Василий Иванович, Ли-Фу — мой исцелитель! — торжественно отрекомендовал он дунгана.
Ли-Фу скромно, но с достоинством поклонился, пожелал всем приятного аппетита и поздоровался за руку сначала с Кандауровым, затем со всеми «стальными. Землемер вопросительно посмотрел на Мишу, а тот подсел к нему и с виноватым видом зашептал на ухо объяснения. Бурденкова поставила на стол еще один прибор. Видя это, Фома изобразил притворный ужас на лице, замахал руками.
— Ты что, сдурела? — напустился он на хозяйку. — Ты чего даешь? Тут палочки нужны. Китайцы разве вилкой едят? — Он отвернулся, прикрыл горстью рот и захихикал.
Ли-Фу привстал со своего места и, вежливо улыбнувшись, вернулся к Фоме.
— Моя родился Китай, но китайсыка обычаи моя не шибко соблюдай, — пояснил он. — Моя родом из Синьцзян, но умей и вилка-ложка кушай. — Снова сев на свое место и лукаво потупив глаза, Ли-Фу добавил: — А вот твоя к Василь Иванычу гости ходи, моя тебе дунгансыка кушанья угощай и палочка давай, а вилка-ложка не давай.
— Я тогда голодный останусь, не умею с твоими палочками управляться, — проворчал Фома под общий хохот. — Я уж тогда лучше рукой.
— Все думай: моя — китайсыка люди, — проговорил Ли-Фу, — а моя Василь Иваныч зови, моя есть дунган.
— Ну дунган, так дунган, — согласился Кандауров. — И дунган человек, и китаец человек.
Вскоре после прихода Ли-Фу к компании присоединился, наконец, и Петр — старший рабочий отряда. Это был человек средних лет, небольшого роста, но плотный, с крупными чертами лица и сосредоточенным взглядом.
Петр поздоровался, тяжело опустился на лавку и вздохнул. Присутствующие оживились, задвигали стульями, заулыбались. Саяпин налил ему водки, Мешков пододвинул заливное. Петра любили и уважали в отряде. Только Фома относился к нему как бы с усмешкой. Впрочем, он так ко всем относился, даже к самому себе. Он и сейчас не упустил случая позлословить на его счет.