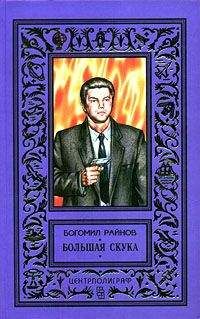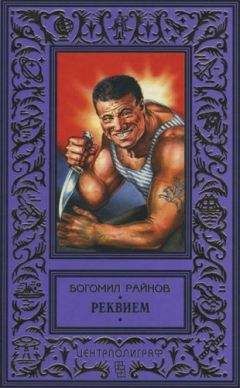Он замолкает, словно желая перевести дух, и я тоже пытаюсь перевести дух — мне не хватает воздуха, или я воображаю, что не хватает. Я чувствую, как в голове снова начинается та отвратительная боль, с которой я проснулся под вечер в отеле «Терминюс».
Под вечер в отеле «Терминюс» — сейчас все это мне кажется чем-то очень далеким, почти забытым, чем-то из Ветхого завета… И Флора, и мосье Арон…
Проходит время. Может, час, а может, больше. Не желаю смотреть на часы. К чему на них смотреть, когда знаешь, что тебе больше нечего ждать, кроме… И мы молчим, каждый расслабился, каждый занят своими мыслями или пытается прогнать их.
— Вот почему мне бы хотелось унести ноги и исчезнуть, если бы мог, — слышится снова тихий голос Ральфа, совсем тихий, потому что Ральф, в сущности, говорит сам себе, а не мне. — Это было бы наиболее логичным. Меня ведь всю жизнь этому учили, это было стимулом: преуспевать, двигаться вперед. Ради чего? Чтобы иметь большее жалованье, больше денег. А раз так, раз ты нащупал наконец эти деньги, целые горы денег, почему не набить ими до отказа мешок и не податься куда заблагорассудится…
— И все-таки вы бы этого не сделали, — встреваю я совершенно машинально, так как мне уже не хочется разговаривать, не хочется ничего.
— Ну конечно, потому что существует и другое: воспитание, дрессировка. Мне все время внушали, что наша разведка — это величайшее установление, вам тоже, наверно, говорили что-нибудь в этом роде. Мне доказывали, что деньги — великое благо, и я поверил. Вам говорили, что брильянты — это всего лишь чистый углерод, и вы поверили. С чего же вы взяли, что вы выше меня, если вы такая же обезьяна, как и я?
— Однако совсем не безразлично, во что человек поверил, — возражаю я равнодушно.
— Абсолютно безразлично… Все — чистейшая ложь. Или, если угодно, удобная ложь. А что из того, что одна из них поменьше, а другая побольше? Я — один. Так же как и вы. Каждый из нас сам по себе… Каждый из нас, жалкий идиот, поверил, что это не так, ему это вдолбили с корыстной целью…
Он прекращает рассуждения, а может, продолжает, но только про себя, для него это все равно, поскольку — хотя и упоминает мое имя — обращается он все время к себе. Если бы он провел день, как я, с мучительной головной болью, если бы какая-нибудь Флора раздавила ему в рот ампулку жидкого газа, у него наверняка пропало бы желание рассуждать, как оно пропало у меня, и единственное, что я стараюсь сейчас делать, — это не думать о том, что мне уже не хватает воздуха; от такого ощущения немудрено, если начнешь царапать ногтями стену, царапать себе грудь и вообще царапаться.
— И все из-за женщин… — слышу после продолжительного молчания голос Ральфа. — В своих устремлениях женщина — необузданное существо, предсказать ее поступки невозможно.
— Так же как и поступки мужчины, — произношу я, едва слыша собственный голос.
— Вовсе нет. У мужчины есть какая-то система. А раз есть система, ее можно расшифровать… Тут себя чувствуешь уверенней: есть система, есть за что уцепиться. Другое дело женщина… Вы сами как-то сказали, что Флора налетела на вас, как тайфун. А ведь это истинная правда: женщины — это стихия, ураган. И не случайно тайфуны всегда носят женские имена: Клео, Фифи, Флора… Ох, эта мне Флора!.. Тайфуны с ласковыми именами… Налетают и все опрокидывают вверх дном…
— Вы уверены? Мы с Розмари жили довольно спокойно… по крайней мере до определенного времени.
— Вполне естественно. В центре урагана погода всегда спокойная. Безоблачная и тихая. Зато попробуйте стать на его пути… Знаю я, что это такое — ураганы. Рассказывал же: Гватемала.
— Может быть, вам хорошо знакомы ураганы, но у меня создается впечатление, что женщин вы не знаете, — замечаю я опять же после долгого перерыва — Ральф, наверно, уже успел забыть, о чем шла речь.
— И женщин знаю, — нудит американец, как свойственно пьяному или засыпающему человеку. — Потому я с ними и не якшаюсь, если вы это имеете в виду… Никогда не якшаюсь. Просто прихожу и плачу… и ухожу с облегчением и с тем чувством отвращения, которое позволяет не думать о них какое-то время…
Он умолкает, совсем замерев там, у стены, куда сполз в тихом истерическом смехе, давно это было, прошли часы, а может, и годы. Потом, по прошествии еще нескольких часов или лет, мучительно изрекает:
— Женщины хороши только на страницах журналов, Лоран… Журналов для подрастающих онанистов… Тех журналов, где можно увидеть множество проституток после режиссуры опытного порнографа… А в обыденной жизни их амбиции и страсти… Нет, не говорите мне… Тайфуны с ласковыми именами…
Затем опять, после того как миновали часы или минуты, я слышу его голос, какой-то очень далекий:
— Впрочем, вы с полным основанием выгораживаете их… этих женщин. Не будь их… я бы вас давно вынюхал и обезвредил.
— Каким образом? — спрашиваю я, еле разжимая зубы.
— Самым радикальным… Я вас уважаю, Лоран… самым радикальным. По отношению к человеку вашего ранга… полумеры оскорбительны…
И мы продолжаем отдавать концы, каждый у подножия своей стены, каждый на своем лобном месте.
— И вот на тебе… взаимно обезвредили друг друга… в этом бункере… в этой нашей общей гробнице… И вам, должно быть, противно, что приходится умирать рядом с таким… как я.
— Почему? На поле боя враги часто погибают рядом…
— Да, верно… погибают рядом… Но хоронить их вместе не хоронят… А нам выпало остаться в братской могиле… в братской могиле шпионов…
В сущности, именно тут твое место, говорю я, правда не вслух, потому что у меня нет сил говорить вслух. В этом бункере времен войны. В бункере, который сохранился, хотя война уже далеко позади… В сущности, нам обоим здесь место, оставшимся от войны, для которых война никогда не кончалась… И нечему тут удивляться, что мы оказались вместе, Ральф… И нечего прикидываться дураком… потому что ты прекрасно знаешь, что она совсем иная, эта наша война, не похожая на ту, с окопами и огневыми позициями… это совсем другая война, и каждый находится в тылу противника, и у каждого в тылу имеется свой противник… и пока она продолжается, нам придется иметь дело друг с другом, нам или другим таким, как мы… потому что противник без противника немыслим… потому что мы порождаем друг друга, и, не будь одного, пропала бы нужда в другом, мы соприкасаемся друг с другом, как день и ночь, как свет и мрак…
Свет, да… Только он уже заметно слабее… Он исчезает. Наверно, спускаются сумерки. И я удивляюсь, до каких же пор нам сидеть в этом мраке, неужели никто не догадается включить свет.
Мы с Бориславом притихли каждый в своем кресле под зеленым фикусом, верхушка которого уже касается потолка этого кабинета. На диване, разумеется, восседает мой бывший начальник, в моем представлении он всегда был немного педант, так же как он всегда придерживался мнения, что я немного авантюрист. А вот у генерала другая особенность, он не любитель официальных заседаний. Вот и сейчас он меряет неторопливыми шагами ковер и задумчиво останавливается то здесь, то там.
— Это не первый случай, — сухо произносит мой бывший начальник, так как ему первому предоставлено слово. — Боев с задачей справится, и неплохо, преодолеет все трудные этапы, и наконец, когда пора поставить точку, он, вместо того чтобы поставить точку, обязательно полезет в западню… Это не первый случай…
— В западню угодить немудрено, — проявляет нетерпение Борислав. — Если бы в жизни все было как на бумаге, этого бы, конечно, не случилось…
— Как бывает в жизни, не вы один знаете, — спокойно отвечает мой бывший начальник. — Мы тоже выросли не в канцеляриях… Хорошо начертанный на бумаге план можно так же хорошо выполнить. Особенно если этим займется такой опытный работник, как Боев. Если, конечно, вовремя сумеет подавить в себе склонность к авантюризму…
— Какой еще авантюризм? — снова вторгается Борислав вопреки установленному порядку. — Разве это авантюризм?
— Ты пока помолчи, — тихо говорит генерал. — Не прерывай человека.
— Пускай, — произносит мой бывший начальник. — Меня это не смущает. Только ему надо быть более объективным. — Он окидывает моего друга острым холодным взглядом и продолжает: — А как иначе назвать весь этот торг с американцем? И зачем, собственно, он ему понадобился, этот торг? Чего ради ему надо было соваться в этот бункер?
— Разве не ясно: чтобы пополнить досье. Чтобы добраться до последнего недостающего куска, — отвечает Борислав.
— Данные, содержащиеся в этом куске, не настолько важны, чтобы ставить на карту свою жизнь. Их можно было получить и в ходе следствия.
— Да, но, возможно, не все, а сколько маеты, сколько времени потратили бы!
— Но не рисковать жизнью, — спокойно возражает бывший шеф.
— В конце концов он рисковал собственной жизнью… — кипятится Борислав, проглотив конец фразы. Я знаю, что он хотел сказать: «…а не вашей».