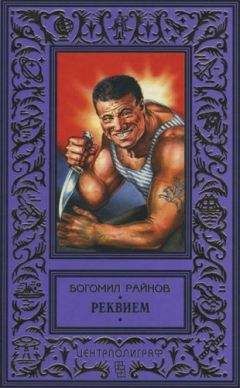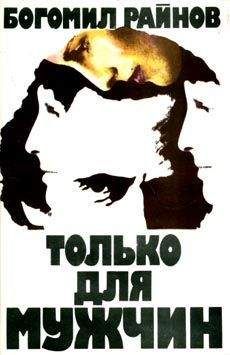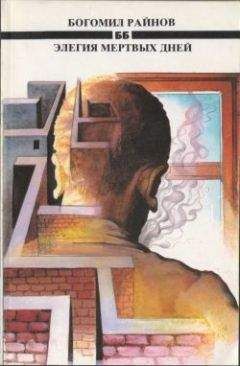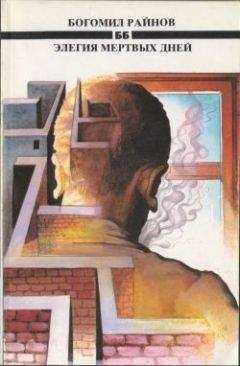— Говорено с профессором?
— Он сам пришел и обо всем рассказал.
— О, значит, здравый смысл все же победил, — отмечаю я. — А что конкретно Томас от него требовал?
— Ничего особенного. Делал намеки о популяризации их успехов... Конкретное сводилось, вероятно, к поездке Берова.
— А это? — спрашиваю, разглядывая снимок, сделанный у «Золотых Мостов».
— Секретарша.
— И приятельница?
— Да, и приятельница, — кивает Борислав.
Он высоко подбрасывает мундштук и ловит его рукой.
— Перестань нервничать, - - одергиваю я его. -Возьми сигарету и уймись, пожалуйста.
— Сатана! — отвечает мой друг, после чего тянется к сигаретам и закуривает.
— У Томаса неприятности не только по службе, но и в семье, — поясняет Борислав, выпуская вместе со словами и соответствующую порцию дыма. — Жена его, очевидно, мечтала не о Софии, ее влекло в Париж, в Лондон. Не успев приехать сюда, она после первого же семейного скандала хлопнула дверью и уехала обратно. Так что Томас теперь соломенный вдовец и кавалер собственной секретарши.
— В чем состоят ее функции?
— Она секретарша, если не касаться их интимных отношений.
— Их интимные отношения меня не интересуют. Еще что?
— Больше ничего. Затишье, как я уже сказал. Из дому в посольство, из посольства домой, приемы, попойки на квартирах у коллег.
— Надеюсь, наша служба следит зорко.
— Следит, только очень издалека.
— Пускай продолжает свою деятельность. Затишье может означать подготовку. Пускай он проявит себя. Человеку надо реабилитироваться.
— Постараемся ему помочь, — кивает Борислав. Слышен стук в дверь, и в комнату входит лейтенант
из нашей группы.
— Повезло нам с квартирой, -- докладывает он. -В доме напротив, на том же этаже, живут наши люди. Молодая семья. Геологи. Сами отправились в командировку, а квартиру оставили нам.
— Когда сможете смонтировать аппаратуру?
— Надеюсь, к завтрашнему вечеру все будет готово.
— А как насчет «Ягоды»?
— Там дело сложнее. Обстановка неподходящая. Может, ограничимся записями?
— Достаточно одних записей, — соглашаюсь я. — О другом не беспокойтесь.
Лейтенант машинально вытягивается в струнку, несмотря на то, что он в штатском, и уходит. После этого мы с Бориславом снова пускаемся в рассуждения о том, как помочь Томасу.
В нашу эпоху технической революции, когда дело создания аппаратуры для подслушивания, наблюдения и фотографирования каждый день отмечается новыми и новыми эпохальными достижениями, крохотное устройство, предоставленное в мое распоряжение Драгановым, кажется жалким и примитивным. Жалкое и примитивное, а дело свое делает. Крохотный объектив, размером с булавочную головку, вмонтирован в стену комнаты, в которой ведется допрос. Этот самый объектив при помощи системы увеличительных линз передает на противоположную .стену смежной комнаты изображение, наблюдать которое можно не напрягая зрения.
Удобно разместившись в этой смежной комнате, я созерцаю на небольшом экране фигуру Драганова, сидящего за письменным столом ко мне спиной, и фигуру Апостола, стоящего лицом ко мне. Это высокий тощий юноша, в нем бы можно было заподозрить баскетболиста, не будь он таким вот немощно расслабленным и слегка сутулым — тонкие ноги, кажется, с трудом держат его длинный скелет. Лицо у него тоже расслабленное, тоже длинное и очень бледное, как у настоящего евангельского апостола, если не принимать во внимание некоторой наглости во взгляде и в изгибах губ, что, возможно, и не присуще евангельским апостолам. На нем черный свитер с высоким воротом и с не в меру короткими рукавами и мятые узкие серые брюки, тоже слишком короткие для его роста.
— Апостол Велчев, — произносит Драганов сухим казенным голосом.
— Он и есть, — невозмутимо подтверждает посетитель.
— Скажи-ка, Апостол, до каких пор ты будешь прибавлять нам хлопот? — по-свойски спрашивает Драганов, неожиданно отказавшись от официального тона.
— А в чем дело? Опять что-нибудь случилось, товарищ майор? — с неподдельной невинностью и теплым участием спрашивает гость.
— А ты почем знаешь, что случилось?
— Но вы же говорите про хлопоты.
— Когда ты в последний раз видел Фантомаса?
Апостол накладывает на лицо печать глубокого раздумья, перемещает тяжесть своего скелета с левой ноги на правую и отвечает:
— Вчера.
— Не может быть.
— Тогда позавчера... Вчера или позавчера, во всяком случае, в «Ялте» он мелькнул перед глазами, но я не стал заходить, так как очень торопился.
— О, ты даже торопишься иной раз... И куда же ты так спешил?
— Хм... — Посетитель снова задумывается и снова перемещает центр тяжести скелета, на этот раз с правой ноги на левую. — К Бояну шел. Обещал занести ему книжку.
— Спешное дело, ничего не скажешь, — кивает Драганов. — И в котором часу это было?
— Не могу точно сказать. Наверно, около четырех.
— И с тех пор ты Фантомаса не видел? - Нет.
— И даже не знаешь, вчера это было или позавчера?
— Но вы же понимаете, товарищ майор, при моем психическом состоянии... — страдальчески изрекает Апостол.
— Раз твое психическое состояние плохое, давай мы тебя полечим! — предлагает Драганов.
— Мерси... Знаю я ваше лечение...
— А где морфий? — внезапно и резко спрашивает майор.
— Какой морфий? — вздрагивает долговязый.
— Тот самый, что Фантомас украл при взломе аптеки!
— Какой аптеки? — симулирует очередное вздрагивание Апостол.
— Пятьдесят ампул морфия! Пятьдесят! — подчеркнуто произносит Драганов, не обращая внимания на искреннее удивление, написанное на вытянутой бледной физиономии.
— А при чем тут я, если Фантомас залез в аптеку? -восклицает Апостол, пытаясь одновременно выразить и невинность, и беспомощность, и задетое честолюбие.
— Только Фантомаса мы сцапали, а вот ампул пока не обнаружили! -- уточняет Драганов. -- Значит, он передал их кому-нибудь из вас. Кому? Вот на это ты и должен мне ответить!
— Ни сном ни духом тут моей вины нет, уверяю вас, — все так же беспомощно бормочет молодой человек.
— Ты ни сном ни духом не знаешь, что творит твой ближайший друг?
— Во всяком случае, аптеку я с ним не взламывал.
— Ты скоро начнешь утверждать, что и с морфием ты не имеешь ничего общего...
— Этого я не говорю, — бубнит Апостол и отводит взгляд в сторону. — И потом, морфием ли я травлю себя или чем-то другим, да и вообще травлю я себя, нет ли, кого это касается, скажите на милость! Если я в один прекрасный день пырну себя вот сюда кухон-Ньш ножом, — он делает красноречивый жест по направлению к своему животу, — вы и тогда станете требовать от меня отчета? Где? На том свете?
— Мы не требуем от тебя отчета, а пытаемся тебя спасти.
— Я не прошу, чтобы вы меня спасали, — хмуро изрекает долговязый. — Начну кричать о помощи, тогда и спасайте.
— А когда ты обираешь аптеки, нам что?.. Сидеть сложа руки и любоваться тобой, да?
— Я же вам сказал, никакой аптеки я не обирал.
— А где ты берешь морфий?
— Где... С того дня, как вы меня накрыли с фальшивыми рецептами, я просто погибаю от наркотического голода.... Только вам этого не понять... — страдальчески произносит Апостол.
— Вот отправлю тебя в Курило, тогда ты узнаешь, что такое наркотический голод.
— Для меня вся София Курило... Весь мир... — восклицает долговязый с истерической ноткой в голосе.
— Вот как? А кто в этом виноват? Мы или такие вот, как ты? — спрашивает Драганов, не повышая тона. И прежде чем парень успел ответить, майор кивает появившемуся милиционеру: — Уведи его! Следующий!
Следующий оказывается женского пола. Рослая девушка, хотя и пониже Апостола, и такая же расслабленная, однако причина этой расслабленности в чрезмерной полноте, вызванной застойной жизнью, леностью или просто нарушением обмена веществ. Лицо миловидное, белое, я бы сказал, болезненно-белое, чуть нахмуренное, апатичное и совершенно неподвижное. Словом, не имеющее ничего общего с артистической мимикой Апостола. Одета молодая особа в мини-юбку, не слишком подходящую для ее толстых бедер, отчасти прикрытых, впрочем, длинным летним пальто, которое чуть не касается пола — сообразно капризному весеннему дню. Если не считать белой кожи, все у этой дамы черное или почти черное — одежда, густые взлохмаченные волосы, глаза.
— Лиляна Милева...
Не говоря ни «да» ни «нет», она стоит перед столом в полной неподвижности, словно тут осталось только ее тело, а душа витает неведомо где.
— Садись, Лили, — предлагает майор со свойственной ему манерой сменять официальный тон сугубо дружеским.
Лили садится все с тем же апатичным видом, словно загипнотизированная, кладет ногу на ногу, и распахнувшиеся полы пальто обнажают ее импозантные бедра.