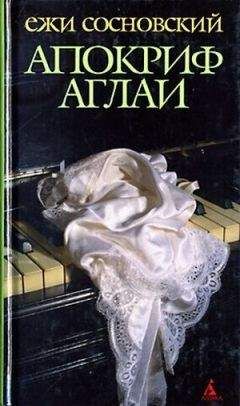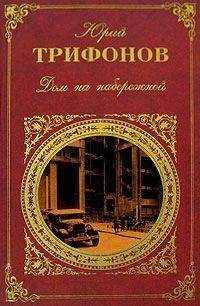Я пыталась припомнить, что именно я говорила Кшиштофу как Зося о ее занятии проституцией (тогда я уже думала о Зофье – она), и прикинуть, где я могла бы его встретить. Хотя мне неоднократно приходила страшная мысль, что прошло несколько месяцев и его тут может уже не быть. В одной гостинице я заговорила с женщиной, по которой было видно, чем она занимается, и спросила про него: тридцатилетний мужчина, ищет брюнетку с браслетом на ноге – это была самая большая удача за последнее время, а может, даже и за последние годы, потому что ока принялась издевательски хохотать на всю гостиницу: «Может, это он и тебя искал, три вечера лапшу мне на уши вешал, да только описывал он настоящую принцессу». Я поинтересовалась, когда это было; по всему выходило, что в августе, недели две назад. Недели не месяцы, уже этого одного мне было достаточно, чтобы радоваться. Ведь из этого следовало, что он не покончил с собой, не запил, а ищет меня… Правда, проститутка весьма резко напомнила мне, что ищет он не меня, а Зофью, однако Зофья была для него потеряна.
– Да Зофьи никогда и не было, – прервал я ее. Она кивнула.
– И я – представляете? – я хотела ему об этом сказать.
Но тот разговор был для меня чрезвычайно важен, потому что я уже пала духом, мне постепенно становилось ясно, что Кшиштофа нет и, возможно, больше не будет, а я со своим пристрастием к бионике нашла себе довольно странное применение: убираю за симпатичной, впрочем, старушкой. И похоже было, что продвижение мне никакое не светило, – она вновь рассмеялась сухим саркастическим смехом. – Даже на трудовой стаж я не могла рассчитывать, ведь это же происходило еще в ПНР. И тут я его встретила.
– Как вам это рассказать? – произнесла она через несколько секунд, но исключительно невнятно, словно у нее произошло что-то с дикцией или словно (впечатление было как раз такое) она каким-то незаметным для меня образом заглотнула под столом несколько рюмашек. – Да и надо ли? У вас не возникает впечатления, что в словах и вправду есть нечто… лишающее жизни? Этакая подозрительность поименованного? Я уже столько зла ему причинила, что, наверное, должна была бы молчать, уберечь это ради него и ради себя. Только вот если вы об этом не узнаете… то он тоже не узнает. В его глазах я останусь странной особой, которая прицепилась к нему на улице. Хотела его заклеить. Похоже на то, что никаких предчувствий не существует. Нет ничего, ни порывов сердца, ничего такого, чем нас пичкают в школе. Как ее звали? А, Изольда… Изольда ведь всегда узнавала Тристана, да?
– Нет, – чуть усмехнулся я, – не всегда.
– Нет? Видимо, я плохо помню.
Во всяком случае с нами, не вдаваясь в общем в подробности, было так: я обошла уже, наверное, все гостиницы и питейные заведения в городе и после того разговора с проституткой приняла решение ежедневно два часа прочесывать центр Гдыни. Я уже перестала верить в кагэбистов за каждым углом. «Может быть, я переоценила свое значение?» – думала я. Что-то подсказывало мне, что сейчас начинается действительно опасный период: я утрачиваю инстинкт самозащиты. Утрачиваю бдительность, а ведь они, если они действительно существуют, по-прежнему жаждут схватить меня. Но, с другой стороны, утешала я себя, я ведь применила стратегию гроссмейстера. «Я так умно, – льстила я себе, – запряталась, переждала, и теперь в любой день могу встретить его». До обеда я занималась своей старушкой, временами ходила по ее просьбе в магазин, читала ей. А в четыре – на два, а иногда и на три часа исчезала. Потом возвращалась: умывала ее и укладывала спать за ширмой. Она удивлялась, что меня устраивает такая работа, но, похоже, не слушала моих объяснений. Кстати сказать, достаточно туманных.
Но встретила я его не тогда, когда у меня было свободное время, а когда утром возвращалась от мясника: у моей пенсионерки иногда просыпался волчий аппетит, и она требовала бифштекс с кровью; я всякий раз, когда готовила их для нее, боялась, что кончится это обвинением в убийстве, потому что старый организм может не выдержать такой пищи, и я буду виновата, однако дочка, которая платила за уход, успокаивала меня (не думаю, что она хотела избавиться от матери): «Знаете, не надо идти маме наперекор, она этого не переносит, злится. А инсульт куда опасней несварения желудка». Надо сказать, старушка обычно съедала небольшой кусочек, видимо, дело тут было в том, чтобы почувствовать вкус, а может даже, просто вспомнить его. И вот как-то она послала меня к мяснику за вырезкой. Возвращаюсь я и вдруг вижу – он.
Человек, которому я поочередно вынуждена была причинить зло, хотела помочь, причинила зло. Идет как ни в чем не бывало, чуть ссутулясь, в волосах появилась небольшая седина. Но это он. У меня не было ни малейших сомнений, хотя еще десять минут назад я могла тревожиться на предмет того, узнаю я его или не узнаю. Кшиштоф. Я замерла с этой своей сумкой, в которой лежал кровавый кусок мяса, а он, разумеется, прошел мимо – меня ведь он не знал и притом думал, наверное, о чем-то другом. Он был трезвый. В мятом плаще, похудевший, но трезвый. Пришелец из иного мира.
Я повернула и пошла за ним. И вдруг поняла, что не знаю, что дальше. Быть может, нужно просто пойти своей дорогой: Кшиштоф не умер, как-то приспособился, я могла принести только еще больше смятения в его жизнь. Кто знает, возможно, самое худшее из причиненного мной ему было сделано как раз тогда, потому что я не оставила его в покое, не дала ему идти каким-то своим путем. Но человеку всегда мало того, что есть. Знаете, если он что-нибудь чувствует, то у него ощущение, что это самое важное предчувствие, важнее быть не может, и уж оно-то не подведет. А чувства, как раз напротив, обманывают. Подсовывают самые худшие решения. Самые глупые. Можете качать головой; но я-то знаю. И внезапно меня как ударило: ведь я за ним слежу. А он дошел до станции, сел в электричку, доехал до Гдыни Главной, а потом прогулочным шагом двинул в сторону сквера Костюшки. А там вошел через служебный вход в Музыкальный театр. Я переждала минутку и спросила у вахтера, кто этот человек. И вот так я узнала, что он работает аккомпаниатором. Для начинающих актеров.
То обстоятельство, что он поселился в Гдыне постоянно, что нашел работу, хоть чуточку связанную с профессией, которую я отняла у него, растрогало меня. Но в том его отсутствующем взгляде, который я поймала на улице… мне показалось и, как выяснилось, верно показалось, было что-то скверное, какая-то… пассивность. Что-то его несло, и он покорялся этому, но сам уже ничего не хотел, ничего не ждал. Знаете, как мертвец. Мертвец, который по привычке ходит, двигается. Мне было жаль его, но я бы не хотела, чтобы вы сочли, что это была жалость. Кто знает, быть может, он мне был нужен куда больше, чем я ему. Он по-прежнему оставался самим собой, оставив в стороне все прочее. А я уже не могла дать ему Аглаи. – Что-то, похожее на улыбку, мелькнуло у нее на губах. Какое-то время она занималась очками, передвигая их туда-сюда по столу. Наконец, не глядя на меня, произнесла: – И запаха ванили тоже.
В тот день в свободное время я сразу же отправилась к Музыкальному театру. Когда он выходил около шести, – я должна была бы уже возвращаться к моей старушке, которая, надо сказать, в тот день изрядно нервничала, так как я вернулась от мясника на углу только через два часа, – я подошла к нему и с наивным видом спросила, не может ли он порекомендовать что-нибудь из репертуара, потому что я тут недавно, а слышала… Короче, этакая незамысловатая чушь. Возможно, он решил, что к нему пристала одинокая девушка, которая ищет общества; мужчины, знаете ли, склонны к таким умозаключениям… Он вежливо отвечал мне, и по тому, как он со мной разговаривал, было совершенно очевидно, что он чудовищно одинок. Он никуда не торопился, вы понимаете, что я имею в виду? А я ведь для него была никем. Он проводил меня до вокзала, я сказала ему, что живу в Сопоте. Да, тогда я попыталась воспользоваться советами той русской актрисы. Опять. Но впервые без недобрых намерений.
Так мы начали встречаться; было ясно, что он убивает со мной время, которого в его жизни стало страшно много. Он перестал искать Зофью. Смирился, как смиряются – даже не знаю, с чем сравнить, – с собственной смертью, если после нее что-то чувствуют. От него веяло ощущением поражения, прикрытого, можно даже сказать, обаятельной элегантностью. Временами цинизмом. Я старалась слушать его, но он говорил куда меньше, чем когда-то. Словно отвык от излияний. А может, считал, что слишком мало знает меня. Уже на второе свидание я шла с твердым решением рассказать ему все. И на третье тоже. И на четвертое. Все никак не могла собраться с духом. Однажды я попыталась дать ему знак, использовать свое знание о нем. Я перечислила ему его любимые кушанья. Он обратил это в шутку, словно вообще не заметив, что я говорю. Я разозлилась и – я понимаю, что это, наверное, страшно, упомянула «Песню Роксаны». Сказала что-то в том духе, что мне она нравится. Он бросил на меня такой взгляд, какого я вообще не видела у него; то была невероятная смесь злобы и боли. Потом, когда мы уже прощались в тот день, он сказал мне: «Ты смотрела „Касабланку"? Помнишь, там Рик запретил играть в своем кафе „As Time Goes By"? Это чудачество, но я не хочу слышать о „Роксане"». Я извинилась и приняла решение, никогда больше ничего подобного не делать. Ведь вполне достаточно было с ним подружиться. Чтобы он не был один.