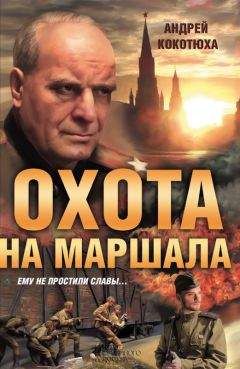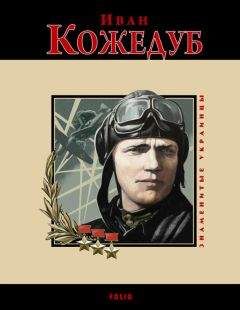Кроме следователя и переводчика в маленьком кабинете находились двое солдат и тот самый старик, схваченный утром фельджандармами. Он при всем желании не смог бы подняться: лежал на деревянном полу щекой в лужице собственной крови. Хойке вопросительно взглянул на солдат, один из них тут же пнул старика носком сапога в живот, другой окатил водой из жестяного ведра. Старик очнулся, застонал, перевернулся на спину, увидел возвышающегося над ним старшего офицера, протянул к нему руку, попытался что-то сказать. Но лишь выдавил из себя звук, похожий на детский плач.
Хойке вздохнул.
– Что тут у нас, Швабб? – спросил следователя, заранее зная ответ.
– Молчит, – ожидаемо отрапортовал следователь, тут же поправился: – То есть говорит, конечно…
– Ничего не знает?
– Именно так, герр гауптштурмфюрер!
Хойке покосился на переводчика, в отличие от следователя оставшегося на ногах. Жестом велел ему выйти, то же самое приказал солдатам, а когда за ними закрылась дверь, прошелся по кабинету, переступив при этом через мокрого стонущего старика.
– Ничего он не знает. В этом, Швабб, можете не сомневаться.
– Я уже понял, герр гауптштурмфюрер.
– Плохо.
– Что плохо?
– Все плохо, Швабб. Все.
Жалости или чего-то похожего к задержанному русскому старику начальник гестапо не испытывал. Сам Хойке пользовался репутацией полицейского, для которого наиболее действенным методом расследования является страх. Давая команду брать в разработку очередного подозреваемого, он сразу велел применять третью степень устрашения, независимо от того, чего хочет добиться в результате. Вопросы в подобных ситуациях вообще можно не задавать: если арестованный выдерживал первый натиск, он либо крепкий орешек, и тогда Хойке самому становилось интересно, либо – случайный человек, ошибка в объекте, невиновный.
Впрочем, невиновный – не то слово, которое устраивало начальника харьковского гестапо. Виновны все. Только каждый – в своем, степень вины разная, так что здесь скорее подходило другое слово – непричастный именно к тому делу, по которому арестован.
Вчера, работая с пойманным радистом, Хойке лишний раз доказал себе и остальным действенность собственных методов.
– Давайте еще раз, Швабб. Как этот тип оказался рядом с партизаном?
– Если русский, бросивший гранату, – партизан…
– Швабб, я могу поверить в любую случайность, – чуть повысил голос гауптштурмфюрер. – Даже в то, что человек с гранатой – одиночка, пробирающийся из города. Во время войны гранату возможно достать, где угодно, было бы желание. А то, что пробирался он в сторону, противоположную линии фронта, тоже ничего не доказывает. Может, он решил двинуться в обход… Но, – Хойке снова переступил через старика, – когда унтер взял в руки его пропуск и начал рассматривать, у того парня сдали нервы. Вот вам факт. Будете оспаривать?
– Нет, группенфюрер. Такой срыв со всяким случается.
– Однако, Швабб, именно бланк комендатуры подтверждает: патруль расстрелял не случайного человека, не трусливого одиночку с гранатой, который не справился с эмоциями. Достать такой бланк – это целая история, тут нужны не просто случайные знакомства, здесь работает система. Как давно она налажена, вам и предстоит разобраться.
– Мне?
– Вам, Швабб. У меня, как вы знаете, со вчерашнего вечера другие дела… будь они прокляты, – следователь хотел что-то сказать, но Хойке жестом остановил его. – Не надо ничего спрашивать. Лучше занимайтесь своим делом. И учтите: вот это, – палец нацелился на старика, – вам вряд ли поможет.
– Почему?
Хойке снова вздохнул.
– Постараюсь объяснить, Швабб. Но с самого начала предупреждаю: мои объяснения ничего для вас не изменят, вы по-прежнему будете продолжать работать. Пусть даже этот путь покажется вам абсурдным и неэффективным. Итак, – он щелкнул пальцами, взял со стола початую пачку сигарет – запрет на курение, действовавший в Германии и для немцев, на сотрудников гестапо не распространялся или же распространялся в меньшей мере, чем на офицеров и солдат вермахта, – прикурил от поданной следователем зажигалки, затянулся, собираясь с мыслями, повторил: – Итак, личность человека с краденым бланком пока не установлена, верно?
– Аусвайс настоящий. Но фамилия и имя, судя по всему, липовые. Вот… – следователь зашуршал бумагами.
– Не нужно, – остановил его Хойке. – Зачем мне имя убитого преступника, к тому же – выдуманное… Что это все может значить, Швабб?
У следователя возникло ощущение, что на допросе у шефа гестапо – он сам.
– Его наверняка подготовили и прислали в город.
– Верно. Сколько проверок выдержит такой аусвайс?
– Думаю, как раз этот документ надежнее пропуска. Иначе у парня не сдали бы нервы… или сдали бы раньше.
– Не согласен, – Хойке сделал еще одну вкусную затяжку. – Я допускаю, что как раз проверки документов в городе измотали. И бдительность фельджандармерии просто превысила предел его прочности. Аусвайс он привык показывать, пропуск, выписанный на краденом бланке, – нет. Кстати, будь на месте немецкого унтера полицейский из местных, всем удалось бы покинуть Харьков. Все местные – подонки, бездельники, пьяницы и взяточники. Служат нам не из-за любви к немецким ценностям и признания превосходства арийской расы над славянами, а только потому, что имеют зуб на большевиков. Но вернемся к нашим баранам, – третья затяжка. – При нем нашли небольшое количество дойчмарок. Вместе с аусвайсом на фальшивое имя это только подтверждает нашу, – слово «нашу» Хойке сознательно подчеркнул, – версию: этого бандита в город заслали и теперь, выполнив какую-то миссию, он выбирался обратно. Обопритесь на эти факты, Швабб, и скажите мне, кем он был.
– Связник, – последовал короткий ответ.
– Верно. Он пытался уйти в сторону, противоположную линии фронта. Лес, партизаны. Это – связной между здешним подпольем и партизанами. Вероятнее всего, он пришел из Кулешовского отряда. И в его расположение возвращался. Для этого бандит сознательно выбрал попутчиков, идущих в деревню на так называемые мены. Телегу и лошадь организовал известный спекулянт с Благовещенского базара, он как раз у городских властей на хорошем счету. Ну а вот это несчастье, – начальник гестапо легонько пнул старика, – вообще случайный человек. Он – составляющая группы, в которую связной собирался затесаться. Что удалось из него выбить?
– Научный сотрудник… Был научным сотрудником какого-то здешнего музея. До зимы этого года отсиживались с женой в деревне, у сестры. Когда мы оставили город, поспешил вернуться. А теперь вот не успел убраться. Жена болеет, решил взять какие-то ее вещи для обмена… Представляете, там, в телеге, нашли выходное платье с оборками. Довоенное…
– Ну вот, – Хойке подошел к столу, погасил окурок о дно металлической пепельницы. – Вы сами ответили на свой вопрос, моя помощь в этом вам даже не слишком понадобилась.
Следователь понимал, что недоговаривает начальник гестапо. А Хойке, в свою очередь, про себя закончил мысль, которую не имело смысла озвучивать.
Задержанный старик – непричем. По большому счету, было бы легче, если бы жандарм застрелил и его. Прежде всего – самому старику: смерть от пули избавляет его от пыток в гестапо, пыток совершенно бессмысленных, пыток только лишь ради пыток. Ведь уже с первых слов ясно – несчастный старик оказался не в том месте и не в то время. Теперь его больная жена не дождется не только продуктов, но и мужа, своей единственной надежды на выживание. Ведь отпускать из гестапо старика никто не собирается, отсюда вообще выпускают крайне редко. С ним работали лишь для проформы, машина не должна останавливаться, кровь арестантов смазывает отлаженный механизм дознания, крики истязаемых заряжают необходимой энергией. Выбивать какие-то показания из старика, понимая бесполезность этого занятия, – не только упоение процессом, но и подтверждение: здесь, в гестапо, зря времени не теряют, отрабатывают по полной программе любую, даже заранее бесперспективную версию.