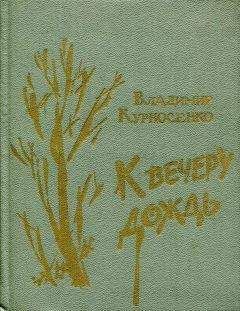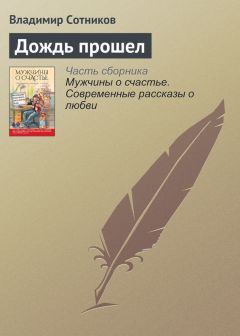Крюгер ворчливо согласился. Джонатан начал просовывать ему ящик, но мешала цепочка. Крюгер сердито захлопнул дверь, отстегнул цепочку и снова открыл. Джонатан вошел, ни на секунду не закрывая рот – и жара на улице стоит несусветная, и влажность, которая допекает еще больше, чем жара. Крюгер что-то буркнул, отвернулся и уставился в окно, предоставив Джонатану самому найти в захламленной комнате место, куда поставить ящик.
Плюх!
Так сквозь бумажный мешок стреляет пистолет тридцать восьмого калибра с глушителем.
Крюгера развернуло и швырнуло в угол между окнами, на которых задом наперед виднелась надпись “Экспорт с Кубы”. Он смотрел на Джонатана в полном изумлении.
Джонатан, прищурившись, смотрел на него, ожидая движения в свою сторону.
Крюгер поднял руки ладонями вверх, жестом вопрошая: “За что?”
Джонатан подумал, не выстрелить ли еще раз.
Две невыносимо долгие секунды Крюгер оставался на месте, словно его пригвоздили к стене. У Джонатана защипало в носу.
– Да падай же!
Крюгер медленно съехал по стене, и смерть затуманила его взор, и устремила его в бесконечность, но так и не скрыла из виду омерзительные комья слизи в уголках глаз. Джонатан, который до сего дня никогда не видел Крюгера и явно не имел мотива для убийства, мог не опасаться, что его опознают. Он сложил испорченный выстрелом мешок и опустил его вместе с пистолетом в новый мешок, принесенный с собой.
В коричневых бумажных мешках огнестрельного оружия никто не носит.
У колонн, в ослепительном сиянии дня, детвора продолжала свои игры. Малыш Жак увидел, как Джонатан выходит из дома Крюгера, и помахал ему через улицу рукой. Джонатан навел на мальчишку указательный палец и сделал “пиф-паф”. Жак вскинул руки и упал на мостовую, изображая предсмертную агонию. Оба смеялись.
МОНРЕАЛЬ – НЬЮ-ЙОРК – ЛОНГ-АЙЛЕНД, 10 ИЮНЯ
Ожидая взлета, Джонатан поставил портфель на соседнее кресло, там же разложил бумаги и начал набрасывать статью под названием “Тулуз-Лотрек: социальная ответственность художника”, которую давно уже обещал одному художественному журналу с либеральным уклоном. Он мог расположиться с комфортом, поскольку взял себе за правило, когда издержки берет на себя ЦИР, покупать два билета на соседние места, чтобы не вступать в нежелательные беседы. Эта роскошь в данном случае оказалась излишней – салон первого класса был почти пуст.
Голос командира экипажа, зазвучавший в динамиках с интонацией, передававшей и чувство собственного превосходства над пассажирами, и несомненно плебейское происхождение говорящего, заверил Джонатана, что уж он-то, командир, знает, куда летит самолет и на какой высоте будет проходить полет. Интерес Джонатана к статье о Лотреке был слишком хрупок и подобного вмешательства пережить не мог. Поэтому Джонатан принялся просматривать книгу, которую обещал отрецензировать – монографию под названием “Тильман-Риманшнайдер: человек и его время”. Джонатан был знаком с автором и наперед знал, что в книге тот будет пытаться угодить и читателям-специалистам и широкой аудитории, чередовать напыщенное наукообразие с сентиментальной слащавостью. Тем не менее, он намеревался дать на книгу положительную рецензию, исходя из им самим разработанной теории, что самый надежный способ удержаться на вершине в своей профессии – поощрять и поддерживать людей, заведомо бездарных.
Терпкий и легкий аромат ее духов он ощутил как мимолетное прикосновенье. Этот аромат помнится ему и по сей день, наплывая внезапно и как раз в те моменты, когда ему этого меньше всего хочется.
– Оба места ваши?
Он кивнул, не отрывая глаз от книги. Лишь самым краешком глаза он скользнул по ее платью – и испытал большое разочарование. На ней была форма стюардессы, и он тут же выбросил ее из головы: стюардессы, равно как медсестры, – это то, чем мужчина вынужден довольствоваться в незнакомом городе, когда нет времени искать женщину.
– У кого-то из бичевателей пороков буржуазии, кажется у Веблена, есть на подобный случай неплохая фраза. – Голос ее был подобен струе теплого меда.
Удивленный ее эрудицией, столь необычной для стюардессы, он закрыл лежащую на коленях книгу и посмотрел прямо в ее спокойные, веселые глаза. Карие, с золотыми блестками, как на костюме Арлекина.
– Эту фразу с тем же успехом могла бы произнести служанка в последнем действии пьесы.
Она легонько засмеялась: крепкие белые зубы и чуть выпяченные губы. Затем она поставила галочку в блокноте напротив его фамилии в списке пассажиров и пошла в хвост самолета отметить других пассажиров. Он смотрел ей вслед с нескрываемым любопытством – на ее упругую попку характерной африканской формы, придающей нечто особенное осанке и походке женщин черной расы. Он вернулся к книге о Риманшнайдере, но глаза его скользили по страницам, не оставляя в мозгу ни слова. Потом он что-то писал; потом задремал.
– Говно? – спросила она, склонившись над его ухом.
Он проснулся и, повернув голову, посмотрел на нее.
– Простите?
Это движение приблизило к нему ее бюст на расстояние в три дюйма, но он продолжал смотреть ей в глаза.
Она засмеялась, в карих глазах снова проступили золотые арлекинские блестки. Она присела на ручку кресла.
– Вам угодно было начать беседу со слова “говно”, не так ли?
– Заметьте, это было не утверждение, а вопрос.
– Это что же: чай, кофе; молоко или?..
– Ну нет, этим потчуют только у наших конкурентов. Просто я заглянула в ваши записки и увидела там слово “говно” с двумя восклицательными знаками. Вот я и спросила.
– А-а. Так это комментарий к содержанию книги, на которую я пишу рецензию.
– Трактат об экскрементах?
– Нет. Дрянная искусствоведческая работа, изобилующая явными или скрытыми алогизмами и грешащая псевдоазианийской витиеватостью изложения.
Она ухмыльнулась.
– Явные или скрытые алогизмы я еще кое-как выдерживаю, а вот от псевдоазианийской витиеватости изложения у меня голова болит до самой задницы.
Джонатан наслаждался созерцанием ее глаз, уголки которых были по-азиатски приподняты. В этих глазах таился еле заметный намек на насмешку.
– Я отказываюсь верить, что вы – стюардесса.
– Иными словами, “что такая девушка, как вы, делает в...”? По правде говоря, я вовсе не стюардесса. Я – переодетый угонщик.
– Это обнадеживает. Как вас зовут?
– Джемайма.
– Прекратите.
– Я вас не разыгрываю. Меня на самом деле так зовут. Джемайма Браун. Моя мама была помешана на этнических традициях.
– Ну, как угодно. Только если мы оба признаем, что для темнокожей девушки такое имя – это уже чересчур.
– Не знаю. С таким именем, как Джемайма, тебя лучше помнят. – Она уселась поудобнее, и юбка при этом слегка задралась.
Джонатан приложил все усилия, чтобы этого не заметить.
– Крайне сомнительно, чтобы кто-то мог вас легко забыть. Даже если бы вас звали Фред.
– Бог с вами, доктор Хэмлок? Неужели вы из тех, кто клеит стюардесс?
– Как правило, нет. Но сейчас я к этому очень близок. Откуда вы узнали мое имя?
Она заговорила серьезно и доверительно.
– У меня мистический дар на имена. Я внимательно смотрю на человека. Потом сосредоточиваюсь. Потом заглядываю в список пассажиров, где есть и имя, и фамилия, и номер места. И – вуаля! Я уже знаю, как человека зовут.
– Отлично. А как вас называют те, кто не помешан на этнических традициях?
– Джем. Не фруктовый, разумеется. – Тихий гонг заставил ее поднять глаза. – Снижаемся. Пристегните ремни, пожалуйста.
Она двинулась дальше, разбираться с менее интересными пассажирами.
Ему хотелось бы пригласить ее на обед или что-то в этом роде. Но момент был упущен, а светская жизнь не знает большего греха, чем несвоевременность. Поэтому он вздохнул и переключил внимание на покачивающийся за иллюминатором игрушечный Нью-Йорк.
В аэропорту Кеннеди он снова увидал Джемайму, но лишь на мгновение. Он как раз останавливал такси, когда она прошла мимо с двумя другими стюардессами. Шли они быстро и в ногу, и он вспомнил, что вообще-то эту породу недолюбливает. Сказать, что он совсем позабыл о ней, пока такси мчало его домой, на северный берег Лонг-Айленда, было бы не совсем верно. Но он сумел оттеснить ее в дальний уголок памяти. И все же было утешительно сознавать, что она существует где-то там... словно что-то маленькое и хорошее пригрелось у тебя за печкой.
Джонатан нежился в своей римской ванне, над которой стоял густой пар. Медленно рассасывалось напряжение последних дней – на шее, за глазами, в челюстях. Только в желудке не таял комок страха.
Мартини в алтаре, кальян в подземной галерее – и вот он уже сновал по кухне в поисках чего-нибудь съестного. Поиски увенчались успехом: немного датского печенья, баночка арахисового масла, жестянка китайского соуса-кичмии, бутылочка шампанского. Он отнес этот гастрономический катаклизм в то крыло трансепта, где у него была устроена оранжерея. Там он уселся возле бассейна, убаюкиваемый плеском струй и отблесками теплого солнца.